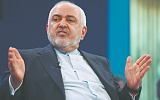Театральный фестиваль «Сибирский транзит» каждый год переезжает из одного сибирского города в другой. В этом году проходил в Томске, а до того успел побывать в Новосибирске, Иркутске и Омске. На следующий год поедет в Красноярск. Раньше собирали «с миру по нитке», теперь афишу составляет экспертный совет из московских и местных критиков, после чего – на манер «Маски» – к работе подключается жюри, в составе которого добрая половина – те же москвичи.
Может быть, «Золотой маске» стоило бы как-то учитывать в своей работе итоги «Транзита», как и некоторых других региональных фестивалей? Ведь в числе учредителей и там и тут – Союз театральных деятелей, который при нынешнем «равнодушии» фестивалей друг к другу, выходит, часть денег бросает на ветер.
«Сибирский транзит», к слову, открывал в этом году председатель СТД Александр Калягин. Вместе с губернатором Томской области он остался и на спектакль – «Дачников» Омского академического театра драмы. Но в антракте ушел. Из официальных лиц это авангардное прочтение Горького (в афише театра автором назван Алексей Пешков) досмотрел один представитель президента в Сибирском округе Леонид Драчевский (за это и за то, что именно ему принадлежала когда-то идея «Сибирского транзита», в местных газетах его назвали главным театралом Сибири).
«Дачников» Евгения Марчелли как раз можно было посмотреть на нынешней «Маске». В числе же премьер томского «Транзита» – новый спектакль Минусинского драмтеатра «Вишневый сад», «Пять вечеров» Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева, «Песни дождя» – полуторачасовое пластическое действо театра «ЧелоВЕК» из Улан-Удэ, «Школьные сочинения» Елены Исаевой в постановке местного Томского ТЮЗа, еще одну современную пьесу – «Татарин маленький» Пояркова – привез Норильский заполярный театр драмы. Со спектаклем «Трамвай «Желание» приехал молодежный театр из Северска – закрытого города в 30 километрах от Томска, в который «так просто» даже местным томским зрителям дороги нет (впрочем, и при нашем «открытом пространстве» Томский театр драмы не был в Москве лет тридцать).
В итоге первое место досталось «Татарину маленькому», а за заслуги в пластике наградили «Песни дождя». Редкий случай: все решения жюри публика встречала с восторгом. Действительно, накануне, после представления башкирского Театра пластической драмы, зал поднялся в едином порыве, овация длилась минут десять, не меньше (хотя перед тем – томились и скрипели креслами на «Вишневом саде» Николая Песегова).
«Песни дождя» хочется назвать событием. Оно, во-первых, убеждает в том, что современный танец не так беден, как можно вообразить на спектаклях некоторых наших модернистов, а во-вторых, что новое слово не всегда находится в области ненормативной русской лексики. Театр пластической драмы из Улан-Удэ обращается, например, к светской поэзии Далай-ламы IV.
Для меня, как и для тех, которые заражены «нормальным скептицизмом», обращение к буддистской поэзии, как и запахи благовоний, предусмотрительно возжженных прежде того, как публика вошла в зал, – как раз из тех слагаемых, которые вызывают предубеждение: с психоделического и, так сказать, трансцендентного искусства и спрос иной, земному суду такое обычно неподвластно.
«Песни дождя» подобное предубеждение преодолевает. Восприятию спектакля не мешает неважное знакомство с поэзией Четвертого Далай-ламы (а равно трех предыдущих и некоторых последующих), как и невозможность разобрать, на каком языке исполнялись его стихи во время представления (вокал – Людмила Глухова). Главное в «Песнях┘» – телосозерцание, поэзия же – часть монотонного музыкального фона, вроде струящихся благовоний (спектакль-телосозерцание – определение из афиши «Песен дождя»).
Смотри, как колышется, зарождаясь, жизнь внутри двух коконов, двух конусов, свернутых из белого полотна, как проклевываются и обнаруживают себя руки и ноги и наконец тела целиком. Любуйся. Созерцай.
Спектакль, поставленный художественным руководителем и директором театра Игорем Григурко, – цепочка ничем не связанных на первый взгляд коротких историй, пластических упражнений. Всего – семь песен, семь сцен – «О каплях-бирюсинках», например, или «О птице и страннике любви», – не просто красивых, но завораживающих с первой секунды. Это – красота телесных совпадений, сочетаний прямых и кривых человеческого тела, красота свободы движения.
Можно, наверное, сравнить это с цирком, настолько свободны и тренированны актеры, игра которых порой напоминает выступления цирковых гимнастов или даже эквилибристов.
Можно выразить восхищение сочетанием чувственности, раскованности почти обнаженного существования актеров и – почти религиозной чистоты и целомудрия каждого их движения. Так что пластические этюды, напоминающие о технической изощренности Камасутры, безболезненно перетекают в многорукие движения Шивы.
Томск–Москва