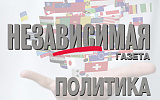Постановка польского режиссера, осуществленная в 1992 году в краковском театре "Стары", привезенная в Петербург на фестиваль Союза театров Европы, уже ставшая частью истории европейского искусства, все-таки и сегодня остается загадочной. Польский режиссер в одно и то же время собирает и отрицает опыт театра ХХ века.
Люпа любит слово "лабиринт" (так называется его книга) и такой театральной структурой пользуется. Попытка собрать в единую систему знания о своем предмете неизбежно ведет героя "Калькверка" через тягучие блуждания в тупик. Не может быть прямой линии действия и в сегодняшнем сценическом представлении - так мыслит режиссер. Разные зрители попадают в разные коридоры его театрального лабиринта, на разные художественные этажи и не могут договориться между собой.
Один этаж - психонатуралистический. Здесь фанатизм героя-интеллектуала, мучительные отношения с калекой-женой, их скрытая за повседневной грубостью недоверчивая любовь и чуткая ненависть, сотворчество и бунт, талант и беспомощность, отчаяние, одиночество, убийство. Здесь - поразительно правдивое проживание актерами той самой "жизни человеческого духа", которую было принято считать гордостью русской школы. Чего стоит повторяющееся "равнодушное" надевание на парализованную жену, как на бесчувственную куклу, в каждой сцене нового платья по ее капризному выбору, а потом финальный танец - волоком - к окну, к иному пространству, и идеально скромный финал: он молча преданно наклоняется к ее плечу (потом, как мы уже знаем, убьет)┘ Артисты Анджей Худзяк и Малгожата Хаевска-Кшиштофяк и сверхмарионетки, и мхатовцы, одно не отделить от другого.
От психологического старта истории о современном Фаусте, который хотел слишком много узнать, высказать и сформулировать, лабиринт ведет дальше, в мучительное подполье, в больное подсознание, и реальность происходящего разрушается. Здесь другой театр ХХ века, метафорический и метафизический, и открытие неизвестного нам, ни на кого не похожего австрийского автора Томаса Бернхарда, воспринимающего художественный текст не как созидание, а как постепенное разрушение смысловых связей.
Герой "Калькверка" пытается раскрыть логику и порядок в мире звуков. Строение спектакля - музыкальное, режиссер вводит персонажей, мотивы, реплики, образы неожиданными аккордами, соединяет и разъединяет театральные голоса, дает им длинные сольные вариации. Сбивчивые монологи Конрада абсурдны по содержанию словесного текста, некоторые из них невероятно продолжительны, до десяти минут, но они естественно вливаются в музыкальную ткань действия. Многократно повторенная на разные лады фраза на немецком языке несет совсем не тот смысл, что дали бы ее слова. Равно важным по экспрессии длинной сцены может быть мгновенный оглушительный, тревожный, невыносимый звук, например, отвечающий движению руки нервно-сосредоточенного героя за чашкой. Калькверк (географическая точка? усадьба?) представлена режиссером как пространство мысли. Герой пытается опустошить свое сознание, очистить его от лишнего, создать систему. В металлические контуры заключена темная пустота, убогое жилище-берлога, из которой наружу ведут закрытые двери, окна, рукава-гармошки, как в выходах из самолета, но что находится во внешнем мире, нам никогда не придется увидеть. Оттуда приходят другие люди, оттуда слышится шум и гул, льется свет, появляются призрачные видения. А все действие внутри, в границах сознания героя. Режиссер ставит монодраму.
Мы следуем за мыслью Конрада по бесконечному лабиринту, через его болезненные кошмары, видим сюрреалистичные искажения непознаваемого мира, чем дальше, тем сбивчивее, в конце концов все сводится к мельканию угрожающих видений, к резким, пугающим звукам и к тишине.
Режиссер пытается (а русский зритель, пожалуй, не согласился) увидеть в стремлении Конрада к истине и системе фарс, в то же время как и трагедию. Там есть реплика: "Превратить комедию в трагедию пытались веками, и ничего из этого не вышло". И мы многократно слышим философскую абракадабру доподлинно страдающего героя и можем смеяться; видим его страшный сон: жена, вся в красном, зловеще сжигает труд его жизни, - и опять можем смеяться. Кристиан Люпа то и дело разрешает смехом безвыходность интеллектуального лабиринта. Другого катарсиса в его трагедии нет.
Все-таки режиссер опроверг мысль Бернхарда о невозможности творения, он не повторил путь героя "Калькверка", создал сложнейшую систему спектакля, в которой находишь тем больше смысла, чем больше думаешь о ней.
Санкт-Петербург