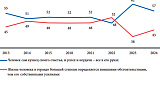Он актер. И только актер!
Он актер. И только актер!
Фото ИТАР-ТАСС
Сначала и навсегда слышишь и помнишь, и носишь в себе голос Яковлева. Невыразимой мягкости, баритонального бархатного рокотания. Голос до преклонных лет не тронутый ни хрипотой, ни надсадой, о котором в былые театральные годы говорили бы - "благородного звучания". Когда меценат и барин, любитель театра, женщин и жизни, Нил Стратонович Дудукин - Яковлев является в знаменитых фоменковских "Без вины виноватых" и, улыбаясь, приподымает изящную шляпу в приветствии; с неторопливой плавностью шествует, раскланивается со зрителями, некоторым персонально посылая любезное "Здрас-с-с-ьте!", - это не только талантливый прием, предложенный режиссером артисту, чтобы в магическом круге знаменитого спектакля объединить в согласии, понимании и любви зрителей и актеров. Это разгаданная Фоменко сущность Яковлева, мгновенье откровения мастера, счастливого хозяина сцены.
В 1952 году Театр имени Евг.Вахтангова получил одного из самых больших своих актеров. "Видимо, гениального", - как по прошествии многих лет говорят в вахтанговских кулуарах.
Высокий, стройный до хрупкости, изящно красивый, молодой Яковлев казался типичным героем-любовником, заполучить которого была бы счастлива любая московская труппа.
Он и играл их всю жизнь в изобилии - обольстителей, авантюристов, победителей. "Мудреца" - Глумова, в котором не было желчи, расчета, злости, а была сияющая молодость, азартная гонка за удачей. И поручика Ржевского в "Гусарской балладе", который лихо рубился, ловко носил гусарский ментик, пил до дна, но в отваге которого проступала бесшабашная детскость, аромат романтического времени. Но этот изящный красавец, баловень судьбы и баловень женщин, признанный и обласканный с первых своих шагов в профессии, очень рано захотел играть стариков, чудаков, чудиков, вроде длинного и тощего, ночного шекспировского стража Киселя в киноверсии "Много шума из ничего" (через четыре года после окончания училища!) - худобой, суставами, коленями, локтями напоминающего бледную спаржу, которая колеблема и падает от дуновения воздуха.
Необъяснимый во времена "железного занавеса" европеизм Яковлева был подлинен и абсолютен. Никто, как он, не носил фраков и крахмальных сорочек, расшитых камзолов и белых чулок, туфель на цветных каблуках с бантами, пудреных париков с буклями. Никто не был так безупречно стилен, так правильно и музыкально не говорил в ролях европейского репертуара, вместе с тем оставаясь русским, глубоко национальным артистом.
В булгаковском царе Иване Васильевиче бушевал и правил пряничный и пестрый русский балаган. Но и в масочном итальянском Панталоне - шепелявом, курносом старикашке, под балахоном которого чудились не туфли мудреца с загнутыми носками, а лапти, Яковлев упивался русскостью, давал тип состарившегося, но бойкого, полного жизни, ядовитого Ивана-дурака. Стихия "Турандот" в разных своих проявлениях - интернациональная, всепроникающая стихия игры, преображений, озорства, свободных контактов с людьми в зале - жила в нем.
На взгляд стороннего наблюдателя, успех и большая слава давались Яковлеву так легко, что кто-то из "идейных" и "умственных" критиков-шестидесятников печатно высказал сомнение: не глуповат ли, не легкомыслен ли этот молодой актер, не бережливый, не рачительный к своему большому таланту?
Актер без амплуа, художник вахтанговской всеобъятности, нераздельности трагического и смешного; идеальный артист ансамбля, играющий не "рядом", не "вместе", а по-вахтанговски - "для" партнеров и особенно - для партнерш.
В спектакле "Насмешливое мое счастье..." он создал образ Чехова - одинокого и нежного, в предчувствии близкого конца ускользающего от людей, от любви. Без портретного грима и костюма "вышел Чеховым" в телевизионном цикле Владимира Лакшина. Не "присвоил" себе чужой текст и чужую мудрость, как сплошь и рядом случается с актерами, а стал на экране равным партнером и собеседником выдающегося ученого и интеллектуала.
Как и всякий советский актер, Яковлев должен был играть и играл (подчас не без удовольствия) современные советские роли, умея и пустяки превращать в шедевры искренности, трогательности или комизма, каким стал его Пчелка в софроновской "Стряпухе" или брошенный любовник Ипполит в фильме "Ирония судьбы".
Оглядываясь назад, в судьбе Юрия Васильевича Яковлева не найдешь ничего, от чего стоило бы отказаться, что нужно было бы забыть. Он умел еще и оставаться верным, как был верным до конца своему другу и режиссеру Евгению Симонову.
Слава Яковлева - чисто театрального свойства, без общественных подпорок, обязательной в советские времена политической ангажированности, трибунной гражданственности. Он всегда только актер и более никто.