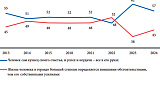Это самый большой из спектаклей Валерия Фокина за последние годы. И эффектный. Первенец "рассчитанной на пять лет художественно-исследовательской программы "Новая жизнь традиций" (Александринский театр и Центр им. Вс.Мейерхольда, при поддержке Министерства культуры). Петербургский спектакль Валерия Фокина, на один вечер привезенный в Москву и показанный на большой сцене театра Моссовета, ждали с интересом и нетерпением - в первую очередь потому, что с возникновения до выпуска был он связан с именем Мейерхольда и памятью о его "Ревизоре" в ГОСТИМе 1926 года. Основанием спектакля стала "сценическая версия" Мейерхольда и его сотрудника, составителя нового текста (из шести ранних вариантов пьесы) Михаила Коренева.
Занавес пошел, сцена осветилась. Мы успели прочитать фразу, написанную наклонным почерком и в старинной орфографии: "Комедия "Ревизор" по желанию Г. Автора рисунок 1 действия".
Спектакль начался, но не было знаменитой фразы: "Я пригласил вас, господа...", а было брошенное на ходу, буднично и вскользь, - что "в ухе засвербило" и надо бы ухо прочистить. Обманно бытовое начало, в интонациях тихих жалоб Городничего (в изящном и мягком исполнении Сергея Паршина) - домашнего, в помочах и тапках, вязнущее в мелочах упреков, нудных перечислений, начисто лишенное тревоги и страха, было у Фокина не только оригинальным, но и полным смысла, читаемых знаков того, что в России "Ревизор вечный".
Весь черный, в атласном цилиндре и фраке, с ослепительной белизны манжетами Хлестаков бесшумно скользил-сползал по изгибу лестницы, напевая под нос песенку "жигана": "...Убью, зарежу..." Выгородка напоминала конструкцию 1926 года. Осип в шинели на голое тело (талантливо сыгранная Юрием Цурило роль), скрестив руки, каменно вставал между Городничим и Хлестаковым, готовый защищать не господина, а сотоварища до конца, а тот вскакивал не чертом, а чертиком на верх белой печки и оттуда, кукольный, худенький, обритый наголо, как и Осип, вел пререкания с высоким гостем.
Обещанные Фокиным цитаты из Мейерхольда, знакомые по многочисленным описаниям, время от времени возникали. Множилось число чиновников и обращалось в шествие. Двоилось, троилось эхо звучаний и реплик. В пространстве сцены рождалась прозрачность темноты, вторя тьме мейерхольдовского спектакля. Но цитаты мало что решали. Аттракционы режиссер с увлечением сочинял, изобретал сам.
Пожалуй, у Фокина не было спектакля, столь откровенно стремящегося к красоте, "эстетного" - в сценографии Александра Боровского-младшего прежде всего. И серо-бело-черная гамма костюмов была изысканной и стильной. И хоровое пение - сопровождение из ложи (вокальная группа "REMAKE"), столько же принадлежащее старине, сколько современным диссонансам, - было прекрасно.
Но чем далее шел спектакль, тем чаще возникало ощущение его преждевременной исчерпанности. Усталость ли режиссера, привыкшего к малому сценическому времени и малым масштабам, была тому причиной или недостаточность замысла? Аттракционы множились, прибавлялись, не образуя целого. Предфинальный хоровод льстецов вокруг Городничего, гологоловых и черных, переходящих от хохота к рыданью, казался элементарным в саморазоблачении.
Чиновники стали неотличимы друг от друга. Не "маски", как следовало бы ожидать, а беглые "мазки", как верно заметил кто-то. Даже опытный характерный актер Николай Мартон - Земляника не сыграл эпизода доносительства, отчего сокращенная до предела сцена взяток пропала вообще. Чувствовалась чужая труппа. Кроме Паршина - Городничего, Осипа - Цурило, и Алексея Девотченко - Хлестакова, различимых в множестве ролей, не сыграл никто.
Девотченко играет виртуозно, фантасмагорично - мистификатора и черта, "черного человека" с головой-черепом и ловкого жулика, запросто вытаскивающего из чужого кармана кошелек и часы. Беда этой блестящей роли, отзывающейся скорее Гофманом, чем Гоголем, и еще сегодняшней массовой "приблатненностью", в том, что она слишком определенна. Нет гоголевской тайны и мерцания.
Крушение Городничего Паршин сыграл исповедально, не наступая, не обороняясь, а укоряя и стыдя. Перебегающая по сцене из угла в угол живая куча-пирамида чиновников отвечала ему улюлюканьем и смехом. До той поры, пока не приносят известие о приезде настоящего Ревизора. Вот тогда они замолкали и во все глаза глядели на Городничего, как на спасителя. А он, застегнутый на все пуговицы мундира, готовился к сражению.
Второй, другой финал вносит желанную для режиссера энергию "актуализации" старой пьесы, включения ее в нынешнюю круговерть жульничества и бесполезных ревизий. Пространство смысла, однако, от этого сужается. И драматическая нота покаяния Городничего оборвана, трагическая же - не добрана вовсе. Между тем в давнем мейерхольдовском шедевре целостность достигалась именно воплощением тьмы жизни, пробуждения совести на миг и грядущего безумия.