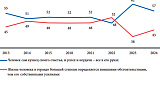Капустник по случаю юбилея - это прелестно. Кажется, так и должно было быть. Но не было. Молодая, красивая труппа - сплошь длинноногие мальчики, девочки - и несколько заслуженных и народных ветеранов вышли в финале. И фейерверк - огненными фонтанами-букетами по краю сцены, и взмывание пестрых серпантинов к потолку - все случилось в финале. А сначала в театре, который называют безумием, любовью, страстью Александра Калягина, был спектакль. Театр, который столько раз осуждали (за "легкую" под руководством вождя СТД жизнь, за "таинственные дотации", за "любезность" ангажированной прессы и пр.), который столько раз хоронили, жил себе и жил, работал, выпускал премьеры, добывал знаменитых режиссеров - Р.Стуруа, А.Морфова, Г.Дитятковского и, как показали последние, в высшей степени удавшиеся премьеры - "Шейлок", "Король Убю", потихоньку-полегоньку, но собрал-таки, "сколотил" труппу. Десятилетний юбилей театр отметил правильно. Новым спектаклем. Если совсем точно - то двумя новыми. (Но об "Игре снов" Стриндберга речь впереди.) Сейчас же - о "Последней записи Крэппа" Сэмюэла Беккета - моноспектакле Александра Калягина (который в своем театре играет много, и все великолепные роли, - держит уровень) и легендарной грузинской "троицы" - Роберта Стуруа (постановщик), Георгия Алекси-Месхишвили (художник), Гии Канчели (композитор).
Спектакль начинается медленным нарастанием света, как во многих пьесах Беккета, на сцене, захламленной точь-в-точь как обозначено в одной из ремарок - подсказов автора: "Ничего стоячего, все разбросано, все лежит".
Спектакль начинается космическим гулом, молниеподобным сверканием, громом и грохотом - то ли близкой грозы, то ли мистических "наплывов"из прошлой жизни героя - старика Крэппа и долгой паузой без слов. Ничего этого у Беккета нет. Роберт Стуруа любит так открывать свои монументальные опусы. Нынешний его камерный спектакль с двумя действующими лицами: стариком Крэппом - Александром Калягиным, который слушает записанный на пленку тридцать лет назад собственный голос, и девочкой из прошлого в "бедном зеленом пальто" - Натальей Житковой, - развертывается иногда в согласии с Беккетом (почти буквальном), но в большей своей части - свободно от автора отступая. (В пьесе фрагменты - заимствования из известного романа Беккета "Моллой", новый перевод - Аси Баранчук и Роберта Стуруа.)
Экспериментальный, абсурдистский, постмодернистский театр в нынешней России (в сравнении с мировой сценой до безнадежности опаздывающий, следующий "по стопам"), увы, слишком часто имеет дело с дилетантами-полупрофессионалами, даже шарлатанами, осуществляется, объясняется, пропагандируется ими.
В данном случае на "территорию" короля театрального абсурдизма вступили мощные художественные силы. Чего-то ищут большие русские артисты (недавно Армен Джигарханян, сегодня - Калягин) у Беккета, пик славы и востребованности которого как будто бы миновал, возвращения к которому редки в Европе и у нас. (В переведенной на русский язык книге известного немецкого критика Бернда Зухера "Театр 80-х и 90-х годов" М.: 1995 г. - нет ни единого упоминания о создателе "художественной вселенной ХХ века", классике и лауреате Нобелевской премии.)
В сравнении с "сидячей", неподвижной пьесой, в спектакле Стуруа и Калягина довольно много движения и очень много игры. Старый Крэпп - решительный и семенящий, как по важному делу, совершает переходы-повторы. Если налево, в глубину и сумрак сцены, то (недвусмысленно и ясно) в туалет по нужде. Если направо - значит, за очередной рюмкой или бананом, которые для него, "диетика", - смерть.
Он рвет и топчет магнитофонные кассеты, с отчаянием ищет главную среди них; таскает в помойный бак исписанные листы и запакованные книги, которые за невостребованностью лежат в холодильнике.
Он играет с вещами. Точнее, в спектакле Стуруа вещи играют со стариком. Крэпп слушает старые часы-луковицу, а из приемника вдруг слышится давняя, танцевальная, манящая мелодия. Старик бросает часы об пол, и музыка умолкает. Вынимает из кармана другие - мелодия возникает вновь. Он вешает на антенну свою шляпу, и наступает тишина. Снимает шляпу, но тишина не прекращается. Надевает - звучит музыка. Замечательно играет Калягин эти трогательные усилия слабеющего ума. Крэпп стоит в недоумении, морщит лоб, ребячески упрямо стараясь проникнуть в тайну возникновений и исчезновений. Игра с вещами - игра вещей в спектакле изобретательна и изящна, с идеальной правдивостью прожита актером. Но истинный, глубинный смысл ее открывается не сразу. Этот вещный мир ускользает, разбегается от старого Крэппа (подобно тому, как необъяснимо и бесшумно взлетает в финале ввысь, под колосники, его шляпа); отчужденный, самостоятельный, неподвластный ни слабым рукам, ни ослабевшей воле Крэппа, который ничего уже не в силах удержать и не в силах понять.
Через вещи, живые и неживые аксессуары совершается прощание и связь с ускользающим миром. Вот черный мячик, которым играл молодой еще, тридцатидевятилетний Крэпп с пудельком - в тот самый день, когда в клинике за окном с грязно-коричневыми шторами умирала его мать. Вот желтый банан - "убийца" диабетика. Вот пленка, которую он со злобой рвет, вот кассета, которую с яростью топчет. Вот черепаха. Но она живая и принадлежит медленно текущему времени. Была до Крэппа, будет долго жить после него. Черепаху Крэпп не бросает. Берет на руки, находит для нее ящик, чтобы она не уползла, не исчезла в хламе и мути его истекающей жизни.
Монологический строй пьесы, где плавно чередуются обширные куски магнитофонной записи и чуть меньшие по размеру тексты живого Крэппа, режиссер и актер приводят к диалогу. Старик не столько слушает - он пребывает в активнейшем общении с самим собой, иронически комментирует, яростно спорит, злобно обличает, негодует и ерничает.
Здесь за неряшливой оболочкой чувствуется определенный характер (у Беккета - многовариантный, смутный, туманный). Здесь ощутимы - а значит, сыграны актером, гордыня, эгоцентризм, тщеславие, греховность, не оставляющая и в старости жажда плотских утех. Безбожник, он записывает на магнитофонную ленту свои "теологические" вопросы: "Долго ли еще ждать пришествия Антихриста? Чем занимался Господь Бог до сотворения Мира? Соблюдает ли природа субботу? Вышла ли Ева из ребра Адама или из его верхнего утолщения на адамовой ноге, то есть из задницы? и т.п. В этом озорстве старика его уродство, но здесь же еще и его живая жизнь, дерзость кощунства.
Именно этот человек, теряя нить памяти, забывая обыкновенные слова (бросается к словарю, чтобы вспомнить, что такое "вдовство"), сквернословя и ерничая, ищет смысл своей жизни и самое главное в ней... Страдание прорывается в диком вопле и яростных ударах кулака о стол: "Я мог бы быть счастлив..." О той девочке из летнего дня, что "лежала на дне лодки, закинув руки под голову, закрыв глаза. Палило солнце, веял ветерок, весело бежала вода... Я попросил ее на меня взглянуть, и спустя несколько мгновений она попыталась, но глаза были щелки из-за палящего солнца. Я склонился над ней, и глаза оказались в тени и раскрылись... Впусти меня..."
Этот гениальный в своей естественности и простоте текст вслед за пьесой несколько раз повторены в спектакле. Молодым, полным мужской силы Крэппом - в магнитофонной записи и вживую - стариком Крэппом. И каждый раз Александром Калягиным. Страсть и поэзия этих коротких фраз, звучащих у актера разно, но в такой нераздельности, свидетельствует о величине утраты. Калягин в новом своем творении предстает как подлинно характерный, а потому и трагический актер, которого, к несчастью, в этом качестве мы видим за последние годы нечасто. Его Крэпп жалкий, уродливый, неряшливый и смешной, всепроникающе трагичен, шут и страдалец одновременно в эпизодах стыда и самосуда.
Спектакль Стуруа и Калягина - о старости, которая у великих ли мира, у малых ли - всегда трагедия. О жестокой выборочности памяти. Невыразимая сложность бытия в спектакле Стуруа-Калягина и невыразимая ясность.