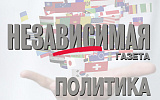Одно время модно было писать мемуары. Причем писали все - вспоминали и прошлое, далекое и близкое, и текущее настоящее, выводя на страницы друзей и недругов под собственными именами. Пару лет назад у группы писателей даже возник проект написать мемуары как бы из будущего о "сегодня", но благополучно провалился.
Что естественно: право на мемуары надо заслужить. Либо судьбой, либо внутренней полноценностью. Феликс Светов, безусловно, имеет право на мемуары по всем причинам. Но "Мое открытие музея" ("Знамя" # 4) все-таки не мемуары, - скорее и мемуары тоже. Это не документальная, а художественная повесть о жизни, вместившей в себя историю страны, историю поколения и собственную историю. Кроме того, это повесть о любви.
Экспозиция личного "музея" Светова на первый взгляд выстроена несколько хаотично. Здесь нет событий в последовательном порядке: воспоминания об отце, о далеком предвоенном детстве, о диссидентстве 60-х, о тюрьме и ссылке перемежаются сегодняшними (или прошлыми?), в общем, вневременными встречами с зеленоглазой женщиной (сколько бы лет ни было герою, она всегда молода).
Фрагменты повести связаны не хронологически, а ассоциативно: автор словно тянет из клубка памяти ниточку с узелками. Узелок - сюжет: юные пионеры 30-х годов впервые приходят в музей на Волхонке: прекрасные тела греческих скульптур - и, словно удар, пришедшее понимание, что "мальчик никогда не сможет дружить с девочкой". Узелок - открытие и закрытие в Минске экспозиции, посвященной истории семьи героя. Узелок - кабинет сотрудника КГБ, где герой узнает о смерти отца. И еще узелки - ЦДЛ 68-го года, потом вечер на "конспиративной кухне", когда решено было прекратить издание "Хроники текущих событий", потом тюремные воспоминания, эпизоды из жизни в ссылке. Песня Окуджавы, исполненная по радио, первый вечер возвращения в Москву. И чтобы читатель не заблудился среди ассоциаций, ему в помощь по тексту раскиданы "вешки". Среди героев повести много реальных и известных, тех, чьи фамилии были у оппозиционной интеллигенции на слуху: Анатолий Якобсон, Борис Шрагин... Знаковые фамилии. Но не только это помогает сориентироваться во времени. Вот, казалось, речь заходит совсем "о личном" - о природе ревности, - и словно вскользь брошено имя Свана. Но случайных экспонатов в музее нет, отсылка к Прусту подсказывает "затекстовый" смысл. Герой, представляя жизнь любимой без него, по прихоти фантазии выстраивает ее как балетную постановку, а раз балет, значит, Большой┘ Дальше дело за ассоциациями читателя: раз Большой, то для человека, чье детство и юность пришлись на 30-50-е годы, где-то рядом маячит фигура Сталина. Пусть имя не названо, но все знают, что балет - его любимое искусство, официальное искусство Страны Советов┘ А в этой стране ложь стала частью жизни, лгут все и всем... Частная жизнь плавно вливается в общую, личное бессознательное - в коллективное, жесткий режим держит человека в железных тисках. А для выросшего в другой стране и других условиях "балет" - такое безобидное слово.
Но в повести, помимо скрытых, есть и явные "признаки" принадлежности автора к определенному времени и определенной среде: название отсылает к роману Юрия Домбровского "Хранитель древностей", и последняя сцена - словно свидание с Домбровским через время. Домбровский - друг, собеседник, диалог с которым никогда не прерывался. У автора-героя и Домбровского - один стиль жизни. Кстати, последнее "свидание" с другом герою на память подарила женщина... Нет, не таинственная "зеленоглазка", а вполне реальная Зоя Крахмальникова.
Та женщина, что в повести все время рядом с героем, - она не названа, но узнаваема, она неповторима, но многолика. Она преданно ждет его из ссылки много лет, но у нее вроде бы есть муж... или нет? Но все равно что-то все время мешает быть вместе. Отношения с ней - та ниточка, на которой завязаны событийные узелки. И если события-сюжеты четко привязаны ко времени и историческим обстоятельствам, то история любви, как и полагается, вневременная, вечная. События четко эмоционально окрашены: гнев, боль, разочарование или, напротив, очарование. А женщина - она одновременно и радость, и боль, любовь дарит свободу, и в то же время это - добровольная тюрьма, единственно возможная зависимость. Та самая, "которою дано, сперва измучившись, нам насладиться". А без "измучившись", к сожалению, ничего не бывает.
Ни в личной жизни, ни в общественной.











.jpg)