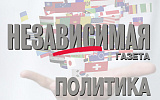Евгений Носов. Константин Воробьев.
Евгений Носов. Константин Воробьев.
СМИРЕННЫЙ ТАЛАНТ
СОЛЖЕНИЦЫН редко берется за перо, чтобы выразить свое отношение к какой-нибудь писательской фигуре. В прошлом году, однако, он посвятил целую статью разбору прозы Евгения Носова ("Новый мир" # 7, 2000). Слегка посетовав, что "полного чуда" не произошло и Носов несколько пригладил действительность, описывая быт колхозной, военной и послевоенной деревни (литература была все-таки советская), конечное решение Александр Исаевич сформулировал положительно: "В рассказах Носова крестьянская жизнь - до того натуральная, будто не прошедшая через писательское перо. Никакой литературщины, никаких приемов. Крестьянское осмысленное понимание каждого природного, бытийного хода. Такое коренное, подробное знанье его, такой наметанный глаз, такая пронимчивая наблюдательность... Да вот - она и есть неизмышленная простая народность, самый тип народного восприятия. Нам тут посылается один из последних памятников деревенской, а значит, тысячелетней и навсегда уходящей Руси. Она застигнута в ее домирающем советском, а затем и послесоветском состоянии".
Так что в этом смысле удивления при оглашении имен лауреатов литературной премии Солженицынского Фонда нынешнего года не было. Евгений Носов, который, по отзыву все того же автора, "поднимался в литературу скромно, неслышно, "тихими" рассказами, никогда ничем не прогремел, - да таким неслышным и остался до исхода своей, уже 75-летней жизни", живущий и ныне в провинции, - замечательный писатель Евгений Носов дождался-таки внимания к себе.
В солженицыновском отзыве о Носове все справедливо, даже критика - если смотреть на литературу так, как привык смотреть на нее раздраженный запретами человек застойного времени. А если раздражение успело улечься, выяснится, что и упрек в известном приукрашивании неблаговидной натуры брошен в сердцах и понапрасну. Во-первых, потому что (как сам Александр Исаевич и признает) главная черта Евгения Носова - "доброжелательное и чуткое внимание" (смысловое ударение поставим на первом слове). Во-вторых, потому что не только времена меняются, но и мы довольно ощутимо меняемся в них.
Евгений Носов был и остается настоящим "деревенщиком", может быть, последним из всей когорты, кому удалось сохранить талант ясной любви к малой и великой родине. Последний не только потому, что ряды былых соратников просто физически поредели, а потому главным образом, что остальные певцы уходящей деревни в последние десять лет все далее и далее уходят от любви и все более и более приближаются к ненависти. Не к деревне, конечно. К городу, олицетворяющему для них ненавистное государство. Их сочинения становятся похожи на политические памфлеты, пронизанные яростью и жаждой мести. Вот уж кто бранит и разоблачает...
На их фоне Носов кажется кем-то вроде толстовского Каратаева или достоевского Макара Иваныча, кому природное смирение и нажитая с годами мудрость мешают смотреть на окружающий мир с безлюбой прямотой обличителя. И все его герои без единого исключения такие же, без раздумий раз и навсегда принявшие окруживший их мир и установленный в нем порядок. Баба, провожающая на фронт мужа, даже убивается по нему как-то украдкой, исподтишка. Бывший председатель почти начисто обезлюдевшего колхоза, вдовец, у которого дети тоже разлетелись кто куда, наполняет свое время тем, что всячески старается услужить туристам - катает на лодке, ловит рыбу, варит уху, - и только случай дает им узнать, что этот хлопотливый старик - одноногий инвалид на протезе. Может быть, поэтому так важен для Носова образ простой деревенской коровы - существа, безропотно подчиненного нуждам человека, которое в бескормицу грызет в хлеву доски, а все дает и дает - из последних сил пусть уже почти пустое, синеватое, но необходимое человеку молоко. Примечательно, что самый подробный у него рассказ - о корове безрогой, не способной постоять за себя, которую в худые годы совсем было уже собирались зарезать, а едва подкормили, она стала не только удойной рекордсменкой, но под стать себе наплодила телят. В образе этой безответной скотины, на которой и пашут и возят, которую кормят гнилой соломой, случается, и бьют, а она все тащит и тащит назначенное ей бремя, отражается, как в зеркале, образ русского крестьянина, так же смиренно несущего свою ношу, сколь бы тяжкой она ни была.
Эти малые люди пашут, сеют, косят, работают от солнца до солнца, не жалуясь ни на что, готовые помочь стороннему человеку, накормить, пустить переждать дождь. Даже войну, выкосившую почти подчистую рабочую мужскую силу, они принимают как неизбежное горе, с которым можно бороться единственным знакомым им способом - трудом. Они и военные действия воспринимают как труд - потому у Носова нигде не описаны "подвиги", собственно, почти не описана и сама война, а только тяжелое ожидание повесток на фронт, а потом - госпитали, костыли да раны, "красное вино победы".
Носов, вероятно, и не смог бы описать войну ни во всей полноте ее кровавого ужаса, ни в отвлеченно-философском ключе, как символическое воплощение Апокалипсиса. Другое видение, другой талант. Чтобы создать полотно художественного текста, Евгению Носову необходимо иметь перед собой осязаемый объект любви. Это может быть что угодно - летнее разнотравье, красавица-кобылка с длинной челкой и в белых чулочках на стройных ногах, наполнивший избу запах свежего хлеба... Носов прежде всего любуется гармонией крестьянского мира и лишь потом грустит о его медленном, но неостановимом исчезновении. Его герои просты и безыскусны, и несут эту гармонию прежде всего в самих себе. Они почти неотделимы от окружающей среды, точнее, оторвавшись от нее, они как раз и теряют свои главные достоинства, становясь жестче, корыстней, нахрапистей. Сельская идиллия скорее мечта, воспоминание, чем реальность, которую можно ощутить, выехав за городские пределы. У Носова есть рассказы, где он описывает этих оторвавшихся от корней крестьянских потомков. Но гораздо лучше выходят у него (пусть уже почти не существующие) типы настоящих крестьян. Возможно, потому, что их он понимает по-настоящему, а эти - что-то вроде повода для горькой усмешки.
Солженицын укорил Носова за слишком уж благостную картину советской деревни. Но вот какая закавыка. В "Усвятских шлемоносцах", самой известной из повестей Носова, есть персонаж, который за несколько лет до войны пропадал из деревни - будто бы уезжал куда-то на заработки, собирался вроде вызвать семью, но не только не вызвал, а еще задержался на несколько лет дольше, чем собирался. И говорить о том не любит. И где был, никто в деревне толком не знает. Попутно где-то промелькнет его признание, что приобрел в своей отлучке особый навык в работе топором. Советский читатель, разумеется, легко угадывал стоящий за этим намек. Очень может быть, что тогда этому читателю хотелось узнать побольше о репрессиях, и он готов был ставить в вину писателю, что не дал своему герою рассказать хоть бы и односельчанам горькую правду о советской власти. Но советской власти уже нет. И осталась художественная правда. И правда эта как раз в том, что герой, побывавший в краю лесоповалов и котлованов, должен был об этом молчать. У Носова не было той задачи, что ставил перед собой Солженицын. Он ставил себе более скромные цели. Вероятно, поэтому и не так знаменит.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКАНА
"Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт", - так начинается самая, пожалуй, известная повесть Константина Воробьева "Убиты под Москвой". Дело происходит осенью 41-го, погибнут все, кроме лейтенанта Алексея Ястребова, с которым читатель уже мог встретиться раньше, в повести "Сказание о моем ровестнике". Константин Воробьев хотел сделать Алешу Ястребова героем большого романа, и две эти повести - составные части так и не написанного текста.
На Алексея Ястребова похож Сергей Воронов, герой повести "Крик", тоже лейтенант, но уже пообстрелянный, хлебнувший лиха. На глазах у Сергея нелепо погибает любимая девушка, а его самого начальство отправляет в никому не нужную "разведку боем". В результате - ранение, первые дни плена┘ О выживании в плену рассказывает повесть "Это мы, Господи!", и героя снова зовут Сергеем. Бои под Москвой, ранение, годы плена, голод, тиф, множество попыток бежать, наконец - побег, партизанская война в тылу у немцев, в Литве, потом - соединение со своими, победа, награды, и главная из них - сталинский лагерь. Все это страницы жизни не только героев, но и самого Константина Воробьева. Самая первая по времени создания, самая страшная по описанным событиям и самая несчастливая по литературной судьбе - "Это мы, Господи!". Воробьев писал ее в 1943-м, в подполье, в Шауляе. Смерть ходила слишком близко. В 1946-м рукопись поступила в редакцию "Нового мира", но, поскольку автор представил лишь первую часть, вопрос о публикации был отложен до появления окончания. И на 40 лет повесть затерялась, исчезла в архивах ЦГАЛИ, откуда была случайно извлечена лишь в 1985 году. И в личном архиве писателя повесть целиком не сохранилась, отдельные ее фрагменты, судя по всему, вошли в другие воробьевские тексты.
Повести Константина Воробьева, конечно, автобиографичны, но пережитое стало лишь основой, материалом. Язык Воробьева выразителен и лаконичен, ни одной лишней детали. Очень точно найден ритм прозы. В "Убиты под Москвой" повествование сначала как бы "раскачивается", набирает скорость: неторопливо рассказывает автор о подготовке курсантов к бою, о рытье окопов, о разных насущных бытовых нуждах вроде обеда. Атмосфера сгущается: после первой бомбежки и встречи с вышедшими из окружения раскачиваться уже некогда, а потом первый бой и первая смерть окончательно срывают тормоза┘ Вообще в военных повестях все происходит с ужасающей быстротой, передающей темп атаки, боя. И все это похоже на жуткий бег по горящему мосту: успеешь - проскочишь, но шансов почти нет. И вдруг автор словно бы спотыкается на бегу: разрыв пленки, задержка, стоп-кадр - фиксация момента душевного перелома, кризиса, из которого герой повести выходит уже другим, изменившимся... И опять автор обрушивает на читателя бешеный ритм войны.
Когда-то Константина Воробьева упрекали за то, что он пишет темно, беспросветно, "сгущено", "дегероично". Но у Воробьева к смертям не привыкаешь, хотя в книге они случаются слишком часто. И героизма - в советско-патриотическом понимании - у него тоже нет. Кажется, Константин Воробьев первым из наших писателей-фронтовиков отделил Родину от государства, этим сразу закрыв для себя возможность пройти у критиков по разделу "окопная проза" рядом с Виктором Некрасовым и ранним Юрием Бондаревым. Для героев Воробьева, как и для автора, Родина - святое, она, как и мать у человека одна, и другой быть не может. Воробьев впрямую нигде не критикует СССР, однако то, что автор прекрасно видит "неправильности" устройства жизни в первой в мире стране победившего социализма, заметит даже не слишком внимательный читатель. Чем выше персонаж занимает положение в советской иерархии, тем меньше следует ждать от него порядочности и благородства: в тех же "Убиты под Москвой" - генерал Переверзев, первым выбегающий из окружения в солдатской шинели, или майор Калач, отправляющий солдат на верную и ненужную смерть ("Крик")┘ И шкала ценностей у Воробьева отнюдь не социалистическая. Не Сталин, Партия, Коммунизм занимают в ней первые места, а, например, родственная любовь. Не обязательно по крови родственная: в "Сказании о моем ровеснике" для деда Матвея приемный внук Алешка стал любимей родных детей; два осиротевших мальчика, подружившиеся в детдоме ("Брат мой Генка"), всю жизнь потом представляются как братья.
Столь же безусловная ценность - любовь между мужчиной и женщиной. Повесть "Вот пришел великан" совершенно непохожа на то, что мы привыкли читать "о любви" у бывших советских писателей или у современных авторов. В ней нет ни строчки романтической банальности, так любимой шестидесятниками, ни капли натурализма, о котором мечтали в 70-е и до которого дорвались наконец в 80-е и 90-е. И героиня повести не "лучшая девушка Москвы и Московской области" и не загадочная гетера, а тщедушная женщина "с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса". Хотя сюжет позволял "развернуться": герой, писатель-неудачник, любит замужнюю женщину-редактора, дело происходит в небольшом городке, где все на виду, чувство идет крещендо, есть и любовные свидания в лесу, и драка с бандитами, и роман заканчивается вызовом влюбленных в профком для разбора "личного дела"┘ "Вот пришел великан" написана, как пьесы Чехова, когда на сцене вроде бы ничего не происходит, люди лишь пьют чай, а в это время рушатся их жизни. Может быть, если бы Воробьев прожил чуть дольше, чеховская традиция в его прозе не только укрепилась, но и получила бы дальнейшее развитие. Талант позволял.
Вот странно: Воробьев, борец по натуре, всю жизнь одерживал победы в прямых схватках - с врагом, с голодом, с болезнью, но потерпел поражение, пытаясь завоевать литературное признание, которого достоин был больше, чем многие тогдашние обласканные критикой авторы. Может быть, потому, что критики (особенно советские, и шестидесятники - не исключение) привыкли создавать писательские "обоймы", прикреплять ярлычки, классифицировать, унифицируя. Воробьев же не вписывался ни в один ряд: слишком уникальный жизненный опыт и уникальный талант. При жизни Константин Воробьев признания так и не дождался. А умер он в 1964-м, в один год с "Новым миром" Твардовского.











.jpg)