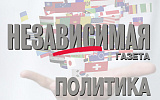Русский богослов в американском Принстоне.
Фото из архива Георгия Флоровского в Принстонском университете (США)
Русский богослов в американском Принстоне.
Фото из архива Георгия Флоровского в Принстонском университете (США)
«Спикер православия»
Георгий Васильевич Флоровский (1893–1979) – один из тех русских философов XX века, которые своей творческой деятельностью представляли русскую религиозную мысль в современном мире. Один из основоположников евразийства, профессор патрологии в парижском Православном богословском институте (1926–1937), декан нью-йоркской Свято-Владимирской семинарии (1951–1955), член Центрального комитета Всемирного Совета Церквей (1948–1961), профессор Гарвардского (с 1956) и Принстонского (с 1964) университетов – вот далеко не полное «резюме» Флоровского. Его учениками в той или иной степени могут быть названы многие видные ученые, богословы, религиозные и общественные деятели, среди которых – митрополит Антоний (Блум), академик Никита Толстой, протоиереи Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Иоанн (Зизиулас), Иоанн Романидис, Пантелис Калаицидис. В Англии и США под научным руководством Флоровского был подготовлен целый ряд диссертаций по византологии и славистике; его влияние испытали такие видные западные русисты, как Ален Безансон, Исайя Берлин, Джеймс Биллингтон, Анджей Валицкий, Людольф Мюллер, Марк Раев и др.
По своей популярности и влиянию Флоровский, безусловно, принадлежит к ведущим религиозным мыслителям XX века. Этот факт по-своему парадоксален, ибо крупнейшим православным богословом столетия (по оценке большинства) признан человек, не только не имевший богословского образования, но и не написавший ни одной крупной работы по богословию; одной из ключевых фигур в истории русской философии – мыслитель, оставивший достаточно скромный томик философской публицистики; наконец, авторитетнейшим специалистом по истории духовной культуры России – автор «Путей русского богословия», книги в высшей степени субъективной и неоднозначной. Возможно, отмеченный парадокс сам же и является объяснением, ибо у Флоровского нетрудно вычитать больше, чем он говорит прямо, не случайно его любимый знак препинания – многоточие... Быть может, сыграла свою роль и русская привычка ориентироваться на Запад. А там, на фоне пробудившегося во второй половине XX века интереса западных христиан к православной традиции, Флоровский снискал славу экуменического «спикера православия», воспринимался с интересом и даже пиететом.
Специфическое интеллектуальное обаяние Флоровского связано не только с его феноменальной эрудицией, бескомпромиссностью и особым «профетизмом» литературного стиля, покорившим многих читателей. Дополнительная привлекательность связана с тем, что в нем можно видеть фигуру, способную служить символом плодотворного союза светского и церковно-религиозного начал. Ведь Флоровский – один из тех немногих религиозных интеллектуалов, чей авторитет оказался одинаково высоким как в глазах светского, научно-культурного, так и церковного, духовно-богословского сообществ. С одной стороны, он – представитель университетской интеллигенции старой России, дитя (пусть и не слишком благодарное) рафинированной культуры Серебряного века и в то же время – священник, богослов, ревнитель святоотеческой чистоты православия, в отличие от большинства русских религиозных философов никогда не «возвращавшийся» в Церковь, поскольку не покидал ее.
Родное и вселенское
Аналогичным образом Флоровский может символизировать духовное и культурное единение России и Европы, Востока и Запада – на уровне как теории, так и практики, воплощенной в жизни. Да, он посвятил немало страниц критическому осмыслению духовной судьбы Запада и двусмысленности западных влияний на русскую культуру. Но в то же время он никогда не был каким-то ненавистником Запада и всегда мыслил Россию неотъемлемой частью христианского мира в целом – отсюда и его неизбежное расхождение с евразийцами. А в 1949 году в письме историку Дмитрию Чижевскому Флоровский признался: «Моя ударная тема и задача – опровергнуть опасный предрассудок, что русская философия и культура «совсем особенная» и даже категории у них совсем другие... Я же давно из псевдо-евразийца стал западником, вернее, икуменистом» (орфография сохранена).
Кстати, экуменизм Флоровского тоже имел практическое выражение: например, в зрелые годы он отмечал Рождество как по юлианскому, так и по григорианскому календарю. Синтез «родного и вселенского» Флоровский олицетворял личным примером, соединяя укорененность в русской культуре со способностью интегрироваться в культурное пространство западных стран, чувствовать себя «дома» на любом континенте. И церковная принадлежность к юрисдикции Вселенского Константинопольского Патриархата была для Флоровского не просто результатом стечения обстоятельств, а сознательным духовным выбором.
Неудивительно, что он был противником всякого национализма, особенно церковного. В связи с этим показательна его короткая, но весьма красноречивая беседа с архиепископом Никодимом (Ротовым, впоследствии митрополитом), главой Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, состоявшаяся в 1963 году на экуменической конференции в Нью-Дели и пересказанная в письме архимандриту Софронию (Сахарову): «Архиепископ Никодим меня очень огорчил и удивил своим вопросом наедине: «Не огорчаетесь ли вы в глубине души, что вы не в той Церкви, где были, крещены?» На что я только ответил с изумлением: «Я никогда не думал, что был крещен в «русской Церкви» и что такая существует. Есть только Православная Церковь». Для него это было удивительно». Уже тогда свойственная для высших иерархов из Москвы склонность к забвению вселенского характера православия, к осмыслению последнего в качестве своего рода племенной религии русской нации вызывала у Флоровского глубокое неодобрение.
Не упускал из виду Флоровский и метаморфозы церковной жизни за железным занавесом, с сожалением констатируя, что практически все усилия современного руководства РПЦ сводятся к бездумной реставрации дореволюционных (как при «старом порядке») форм церковного бытия. «Реставрация», – делился он с тем же архимандритом Софронием, – дает удовлетворение, создает иллюзию «порядка» и «благополучия». А между тем этот «старый порядок» был весьма не-благополучен и не-реален (в смысле английского un-real (фальшивый, искусственный. – А.Ч.). Однако именно этого большинство не желает признать, вопреки очевидности».
Не менее актуально звучат для нас сегодня и мысли Флоровского, высказанные в переписке с Николаем Трубецким еще в 1923 году, по поводу «религиозного возрождения» в среде русской эмиграции, для многих общественных активистов которой православная вера фактически подменялась рассуждениями о «православной культуре» и политизированной «православной идеологией»: «Право, тягостно думать, что стало хуже, когда люди пошли в церковь... Нельзя проповедовать религиозную культуру, можно проповедовать только веру. Иначе получается демагогия. Вместо православной веры получается вера в православие, подмененная ущербляющими формами: православное царство, святая Русь и т.д.»
Пророк в своем отечестве
 |
| Протоиерей Георгий Флоровский в кулуарах одной из экуменических конференций. |
Флоровский оказался для этого удобной фигурой, поскольку в его творчестве можно увидеть своеобразный синтез православного богословия и историософии евразийского толка – самых востребованных ингредиентов для выработки русской «национальной идеи» постсоветского образца. Однако в большинстве случаев все ограничивалось простым цитированием и достаточно примитивными компиляциями. Тем не менее нашлись также люди, которые стремились творчески следовать за Флоровским, сделали его имя путеводным знаменем в своих попытках проложить некие новые направления религиозно-философской мысли. И если наиболее яркими наследниками Флоровского в богословии оказались иностранцы (американцы, французы, греки, сербы), то в России оригинальным опытом развития идей Флоровского явилась философская концепция синергийной антропологии, которую формулирует в своих работах Сергей Хоружий.
Однако моды, в том числе интеллектуальные, переменчивы, и время благоговейного преклонения перед Флоровским, исключительно комплиментарных оценок его идей постепенно прошло. Стала назревать потребность более пристально оценить наследие этого богослова, возможно, поставить под сомнение справедливость его исторических трактовок, даже оригинальность и плодотворность всей предложенной им программы неопатристического синтеза. Один из ключевых элементов историософии Флоровского, его теорию «псевдоморфозы православия», подверг острой критике бельгийский славист Фрэнсис Томсон, который убедительно продемонстрировал тенденциозность автора «Путей русского богословия», давшего оценку деятельности в XVII веке киевского митрополита Петра Могилы, руководствуясь, по сути, лишь вкусовым критерием, игнорируя реальную многомерность истории культуры. И хотя Томсон затронул только отдельный пункт, его критика выявила серьезный методологический изъян исторических построений Флоровского. Имеется в виду та радикально идеалистическая, если не сказать, спиритуалистическая, позиция, которая заставляла его закрывать глаза на социальные, политические, экономические измерения исторического процесса, без учета которых невозможна и достоверная история духовной культуры.
Не осталось в стороне от критики и богословское ядро наследия Флоровского. Основной предпосылкой для такой критики стали контекстуализация его творчества, выявление и реконструкция реальных идейных источников последнего. Результаты такого рода исследований оказались весьма интересными и неожиданными. Стало ясно, что неопатристический синтез, декларирующий необходимость творческого обращения к восточным отцам Церкви и преодоления западных влияний в православном богословии – от схоластических до современных философских, – сам в гораздо большей степени восходит к западным философским и богословским источникам, чем к творениям святых отцов.
В частности, гносеология, экклезиология и понятийный аппарат Флоровского лишь стилизованы под патристику, а на деле представляют собой вариации по мотивам немецких романтиков и идеалистов. Что, в общем-то, неудивительно, ведь Флоровский получил философское образование и интеллектуально сформировался под влиянием прежде всего западной философии, а также философии Владимира Соловьева и славянофилов, которые, в свою очередь, тоже во многом выступали трансляторами западных идей. При этом сам призыв «Вперед, к отцам!», составляющий основу неопатристического синтеза, удивительно созвучен идеологии католического богословского движения ressourcement («возвращение к истокам»), о котором Флоровский предпочел умолчать.
Принципиально важной претензией в адрес Флоровского явилось указание на негативный характер предлагаемой им модели православной идентичности, определяемой «от противного», в ходе противопоставления православного Востока «отступническому» Западу, а заодно инспирированным западными влияниями всевозможным «еретическим» тенденциям в самом православии. Вдохновляясь принципами философии диалога, британский исследователь Брэндон Галлахер призывает православных верующих отбросить имплицитный алармизм неопатристического синтеза и познавать себя через открытость к общению с Другим: «Православная идентичность может быть постигнута через искреннюю встречу всего того, что включает в себя понятие Запад – не только западного христианства, но и современной философии. Ибо я способен осознать свою восточно-православную идентичность не иначе как благодаря встрече с тем, что не мое как часть меня, признавая, что быть собой, значит находиться в определенной зависимости по отношению к этому и только посредством такой встречи-признания я обретаю истинный дом моей души».
Впрочем, гетерогенность неопатристического синтеза может истолковываться и прямо противоположным образом, когда в обращении Флоровского к западным концепциям усматривается проявление того самого диалога, на отсутствие которого сетует цитированный выше автор. Например, диакон Павел Гаврилюк (США) усматривает в понятии «христианский эллинизм» творческое переосмысление и переоценку Флоровским концепции эллинизации христианства, сформулированной знаменитым немецким богословом и историком Церкви Адольфом Гарнаком. По мнению другого современного американского исследователя – Мэтью Бейкера, неопатристический синтез продуцирует уникальный диалогический метод, который может продуктивно применяться, в частности, в ходе экуменического диалога между конфессиями.
После серии предпринятых в недавнее время критических интерпретаций Флоровский уже не кажется неким православным «пророком» XX века, а его работы соответственно больше не представляются прямым продолжением непогрешимого святоотеческого учения. Однако автор «Путей русского богословия» от этого лишь выиграл, ибо длительная идеализация, если не сказать – «канонизация», во многом препятствовала нормальному восприятию его текстов, исключала их из подлинно дискуссионного контекста и тем самым по большому счету закрывала от нас. К 120-летию Флоровского эта стена наконец обрушена, что стало, пожалуй, лучшим подарком к юбилею мыслителя, ибо теперь он становится открыт для всестороннего изучения и осмысления, включается в пространство свободного интеллектуального диалога.