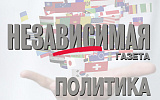Н. Пунин. Дневники. Письма. -М.: АРТ, 2000, 527 с.
ПОКЛОННИКИ Ахматовой, скорее всего, отнесутся к пунинскому архиву с настороженным любопытством, а почитатели Иосифа Бродского, памятуя о нелестном отзыве поэта о семье Пуниных, - с предубеждением. Однако и те и другие, да, впрочем, и все, для кого имя Пунина ассоциируется исключительно с биографией Ахматовой, пролистывая эти дневники, наверняка изменят свое первоначальное мнение. Поскольку личные записи Николая Пунина, которые тот вел на протяжении более сорока лет, раскрывают перед читателем мир, не умещающийся в тени славы русской поэтической дивы.
Хотя, конечно, есть известная доля истины в том, что для широкой публики Николай Пунин длительное время оставался лишь "вторым мужем" Анны Андреевны. Пунин любил Ахматову долго, безудержно, преданно. С уходом из семьи. С мучительной чуткостью к скорби первой жены. С фаталистическими прозрениями. С многократными сомнениями в ответной верности. Прощал. Расставался. Возвращался. Боготворил. Пятнадцать лет длилась их совместная жизнь и нестихающая страсть. Наконец, в 1938 году разошлись совсем, а в 1940-м Ахматова пишет "Разрыв" - своего рода эпитафию их отношениям. От этой любви остались: с одной стороны, длинные, необычайно нежные письма Пунина, с другой - лаконичные, скупые на эмоции записки Ахматовой и обращенные к нему стихи. В 1944-м, будучи уже один на один с угасшим чувством, Пунин еще раз пытается разобраться в их общем прошлом: "Ан, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски. Обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь┘" Трудно представить, кто бы еще сказал такое об Ахматовой. Не здесь ли кроется причина того, что поклонники Ахматовой Пуниных недолюбливали?
История любви Пунина к Ахматовой, по крайней мере, как она отражена в его дневниках и письмах, обнаруживает в этом человеке силу глубокого и искреннего чувства. Но его судьба - больше его страсти к женщине. И тот факт, что сегодня о Пунине-футуристе, Пунине - художественном критике, Пунине - историке искусства знают лишь немногие специалисты, объясняется просто: преднамеренным, идеологически спровоцированным забвением, более того, физическим уничтожением того мира, в котором жил Николай Пунин и его единомышленники.
Между тем в качестве историка искусства и художественного критика Пунин уже в предреволюционные годы и особенно в первые советские десятилетия не знал себе равных. Сначала гимназическое, а затем фундаментальное университетское образование (диплом - у знаменитого историка византийского искусства Айналова) обеспечили молодому ученому надежную академическую карьеру, которая, однако, для самого Пунина имела лишь второстепенное значение. Его страстно увлекало то, что сегодня именуют "актуальным искусством". В середине 1910-х годов Пунин раз и навсегда предпочел кабинетной византинистике судьбу профессионального арт-критика. И хотя он все-таки оставил за собой доходное и почтенное место хранителя в Русском музее, однако в том, что касается жизнестроительного задора, Пунин не уступал самым деятельным авангардистам. Он мог с одинаковым воодушевлением участвовать в "футуристических боях" и "делать заклепки реек" для татлиновского "Памятника", писать статьи для рафинированного "Аполлона" и редактировать "Искусство Коммуны" - самое профессиональное периодическое издание первых лет революции.
Однако в самозабвенном участии Пунина в левом движении не было ничего от недальновидного бунтарства и огульного ниспровержения классики с "корабля современности". Воспитанный на классическом искусстве, Пунин был апологетом формы и потому ценил в творчестве авангардистов не столько идейную программу, сколько эстетическое новаторство. Его суждения нередко шли вразрез с партийной солидарностью. Например, он отдавал предпочтение Татлину перед Малевичем, а Хлебникову - перед Маяковским. "Хлебников - это ствол века, мы прорастали в нем ветвями", - писал Пунин в 1916 году. От своих "формалистических" корней Пунин не отрекался никогда - ни перед самим собой, ни публично. За что и поплатился академической должностью и личной свободой в конце сороковых годов.
Правда, в первые десятилетия советского строя Пунин благодаря своей академической выучке вел относительно благополучную жизнь (если не считать двух краткосрочных арестов в 1921-м и середине 1930-х). Он преподавал историю мирового искусства, и многие поколения советских студентов и любителей искусства обязаны бывшему "воинствующему футуристу" сохранением традиции гуманитарного знания. В целом же Пунин разделял то пассивное неприятие советского режима, которое было присуще большинству советской интеллигенции, сформировавшейся до революции. Будучи "законченным" эстетом, он мог оставаться вполне равнодушным к пропагандистским сюжетам соцреализма. Но как только соцреализм стал превращаться в искусство сугубо идеологическое и тотально бездарное, душа "формалиста" возмутилась. "Хочет или не хочет наше правительство, но нашему искусству придется отчитываться перед современным западноевропейским искусством", - заявил Пунин на одном из заседаний ЛОСХа. Вряд ли он не отдавал себе отчета в том, что за такие высказывания ему самому придется держать ответ перед правительством. Увольнение из академии последовало моментально. Затем - арест. В 1950-м, не дождавшись обещанного освобождения, Пунин скончался в больнице Абези.
Напоследок - замечание для тех, кого в этом издании все-таки привлекает не столько личность Николая Пунина, а скорее его мифологизированное окружение - Ахматова, Татлин, Бруни, Малевич, Хлебников, Петр Митурич, Осип и Лиля Брик, Тырса, Пуни, Маяковский, Пастернак. То обстоятельство, что перед нами не мемуары и не автобиография, а дневники, письма и некоторые личные документы, имеет как преимущества, так и недостатки. Скорее всего, читатели с фактографическими запросами будут досадовать на фрагментарность и непоследовательность записей, которые часто подменяют изложение событий их оценкой, описание - неясной эмоцией. Но ведь на это можно взглянуть и с другой стороны: именно дневниковый характер пунинского архива сообщает ему особую ценность. Поскольку в отличие от мемуаров оценки, заметки, суждения, наблюдения, сделанные для себя или в переписке, начисто лишены даже малейшей доли избирательности и тенденциозности, которая порой нет-нет, а все-таки совершенно непреднамеренно перелицовывает память. Поскольку частные детали личного быта и внешних событий, обрывки беседы, переживание от встречи - в общем, все, что занимает сознание "здесь и сейчас", - все это отличается той непосредственностью высказывания, которая вносит в уже канонические для нас образы жизненную неоднозначность.