
|
|
Почуяв, что плоть его наготове, Маркиз вопросил китайского болванчика |
Из «Гисторических материалов» деда моего Федота Кузьмича
Читатель, преподношу тебе в подарок извлечение из неопубликованных записок деда моего Федота Кузьмича Пруткова, писанных скорописью XVIII столетия. В них надо было еще разобраться, ибо скоропись пишется легко, а читается трудно. Почему дед избрал для своих трудов именно скоропись? Значит, оттого что мысль его летела быстрей руки, и перо за нею не поспевало, вот он и прибег к таковой хитрости, не подумав, как потомки будут оную в толк брать.
Будучи премьер-майором, Федот Прутков и в неопубликованном почтителен к людям военным, а будучи помещиком, не оставляет без внимания штатских. Будучи же верен престол-отечеству, освещает и толпящихся на ступенях к трону, а будучи поклонник женской красоты, коснуться ея никогда не преминет.
Вникни, читатель, в издаваемое мною и согласись, что таковых «Гисторических материалов» ты ни в каких иных изданиях, равно как и в Гисторических обществах, отнюдь не сыщешь.
Твой доброжелатель Козьма Прутков 13 марта 2023 года (annus, i).
Китайский болванчик
Цин династии старая мудрость, изустно передаваемая, от века гласит: поступай так, как говорит учитель, но не поступай так, как поступает учитель.
Некий маркиз – муж столь же на словах праведный, сколь в делах многогрешный – имел у себя в спальне неосторожность удовольствия ради завести китайского болванчика из белой глины, и стала игрушка невольной свидетельницей господина того амурных прихотей. Толстый, румяный болванчик, награжденный преглупою улыбкою, сидел по-турецки, обнажив полукруглый живот с утопленным, как ямка, пупком. Звался китаец Као-лином. Обыкновенно, встречу предвкушая со знатной матроной или же пригожею девицею на выданье, маркиз вопрошал: «Ну, Као-лин, как ты полагаешь, не искупает ли греха собственного прелюбодеяния тот, кто долгой проповедью предостерегает от него других?»
Болванчик в ответ согласно кивал, кланяясь лбом до пупа, дескать: «Да-да-да... Да-да-да... Да-да-да...» И маркиз со спокойной совестью совершал желаемое.
Се вызывает он в покои девицу непорочную, но допреж, нежели разрешить с ней тайну плоти, восхотелось ему как следует пробрать проказницу за детские ее шалости, а уже пробрав, лишить невинности, взяв грех на себя и получив отпущение от болванчика, как от аббата.
Поелику грех предстоял велик, то и проповедь затянулась настолько, что девица от стыда и несносных нотаций уж и не ведала, куда ей деваться. Хоть под землю провались! Почуяв, что плоть его наготове, маркиз вопросил болванчика:
«Ну, Као-лин, как ты полагаешь?..»
И Као-лин, всегда поддакивавший господину, на сей раз, лицемерия маркизова не стерпев, закачал головою с боку на бок, словно приговаривая: «Ай-я-яй!.. Ай-я-яй!.. Ай-я-яй!..» Восприяв сие посрамление от покорного ему болванчика, маркиз оторопел, на миг и дара речи лишившися. А девица спохватилась да и – шмыг! – прочь из спаленки.
Лоцман Панов
Как царь Петр Алексеевич в молодые лета плыл с приближенными по Белому морю на малой посудине, а в шторм угодил превеликий, так что уж челядь его с жизнию прощалась. Обратился государь, в навигациях беломорских отнюдь не сведущий, к лоцману Панову и давай учить, куда тому править.
А судно мотает; валит то на левый борт, то на правый; волной перехлестывает. Осерчал Панов – мореход бывалый да сгоряча и ляпни царю-то: «Пошел вон, дурак, коли жить хочешь. Я больше твоего смыслю, куда правлю».
Отскочил царь от лоцмана, как горошина, отповедь тую заслыша, а тот и довел судно до берега благополучно. Пав на берегу Панов на колени, повинился за дерзкие свои речи и удостоился в ответ слова царского: «Ничего, брат. Лучше стерпеть дурака да живым остаться, нежели слыть за умного да утопнуть».
Вождь неискусный
Хвастун-воевода собрал вкруг себя восемь девок и ну перед ними похваляться, де:
И шлем-то у меня
самый крепкий.
И кольчуга-то у меня
самая толстая.
И меч у меня самый острый.
И щит самый круглый.
И люблю я вас всех
восьмерых до страсти!
Но в бане со своими шайками и невестами неприятелем застигнувши был врасплох, темже и оружие хвастуну в предбаннике развешенное, службы отнюдь не сослужило.

|
|
Царица вздохнула: «Хоть бы блюда фарфоровые назад мне вернули» |
Государыня императрица Екатерина Алексеевна о добре своем радела, но как ни пекись, а все недостачу в оном премногую претерпевала. Однако ж и добра у нее было несметно – вся Россия.
Как гуляючи моциона ради в тени боскетов, промеж куртин цветочных с фрейлинами своими неразлучно, примечает матушка: выбираются, крадучись, из дворца друг за дружкой лакеи ливрейные. Один, другой, третий... Сколько их? Да нет им конца-краю! А у каждого в руках, не то и на голове, по литому блюду германского фарфора, за золото купленному. Да на блюдах оных – персики горкою, ананас торчком, виноград свисает кистями... И вся кумпания к воротам путь держит по домашней надобности, раз время вечернее. А привратники спиной к лакеям оборотились, лицом к забору: вроде как не видят; вроде как наружных воров караулят, а своим попускают.
Свита встревожилась. Дело ли фрукты, за морем произраставшие, из покоев царских тащить фарфоровыми блюдами? Фрейлины затрепетали, дескать, матушка, поворотить бы несунов да острастку им дать, чтоб одумались как оно бывает казенное хитить. Но царица всемогущая, токмо опечалившись, вздохнула бессильно: «Хоть бы блюда фарфоровые; блюда бы хоть, говорю, назад мне вернули».
Армянин и две Эльвиры
Вестимо, армяне – народ торговый и в коммерции уступят разве иудеям и то навряд. Обмануть их некому. Один армянин – купец богатый с Эриваня привез в Питер ковры на продажу, а барыш изрядный получивши, зашел не в кабак спустить, а как к просвещению склонен, в тую Академию художеств на картины полюбоваться. И вельми некая ему приглянулась.
На той картинке внизу нарисован армянин: бровищи черные; ресницы, как угли; усищи, что воронье крыло, и в кольца завиваются – вылитый купец! А сверху наискось такая Эльвирочка лет осьмнадцати выглядывает, что вся б ахнула Эривань, и Арарат извергнулся б от страсти подобно Везувию италийскому! Курносенькая, глазки шустрые, талия в рюмочку, а грудка белая, как сливочки, из кружевца наружу лезет, лезет, бесстыдница, и чуть щеки купеческой ни трогает нежно...
Тут и художник подвернулся, вдоль похаживает. Купец к нему: «Позвольте познакомиться. Стало быть, гость от самой Тифлисской губернии. По торговой части труды принимаю». – «Очень приятственно. Аземша Александр Николаевич. По части обретаюся живописной». – «А кто сия будет, господин Аземша, дамочка на картинке, спросить вас угодно?» – «Извольте. А сия дамочка будет вдовица Эльвира, домовладелица». – «А как бы с нею, к примеру, знакомство свесть?» – «А проще некуда. Я и познакомлю».
Обомлел купец от счастия и купил у Аземши немедля картинку за сто рублев серебром, не торгуясь. Сам цену положил. К ужину приходят оне ко вдовице в собственный дом на Мойку. Служанка выскочила, так, мол, и так, что госпожа не в авантаже. Просют с полчасика подождать.
Ждут.
На исходе срока скрипучие двери заскрипели скрипом канючим и госпожа выплывают Эльвира Пахомовна в нарядах нафталинных, из каких невесть шкапов достанных. Сами лет преклонных, нос на губу; глаза накрашенные, глядят тускло; талии не разобрать, руки голые, а уж пухлости нету в них ничуть, дряблая одна обвислость.

|
|
Гость от самой Тифлисской губернии по торговой части. Иллюстрации автора |
«Как же ты меня обманул?» – купец-то на улице. «Никакого обману не вижу», – Аземша-то. «Да как же, Александр Николаевич, не вижу, когда продал молодую, а предъявил старую?» – «Какую продал, такую и предъявил».
Пошли к армянину на квартиру снова картинку смотреть. Сто рублев не шутка. Купец глядит: молодая с белой грудью. Аземша глядит: старая с голой рукою. А потом взоры свои перекосили, и вот – оказия. Купец глядит: старая с голой рукою. Аземша глядит: молодая с белой грудью. Старая на спину откинулась, будто при смерти. А молодая к ней вплотную прижалась, нос к носу так, что между ними ни щелочки.
Тут Аземша и догадайся, что без ведома его вышел оптический обман: как поглядишь, то и увидишь. Смекнул и купец, что дело-то, может статься, прибыльное. Свез картинку в Эривань, показ устроил диву такому непредвиденному и двести с лишним серебром рублев заработал, повеселев.
Хандра
После трудов тяжких и веселья необузданного Светлейший Потемкин-князь изрядно захандрить мог. И такая хандра одолевала оного, что все прислужники кругом дрожмя дрожали, опасаяся Светлейшего потревожить. На любую просьбу был не токмо князь способен сугубое выразить раздражение, но и поколотить отменно.
Как хандры приступ один черный особливо долго длился, то бумаг на подпись князю накопилось до страсти. Бумаг не счесть, а докучать страшно. А и не взойтить нельзя. Сам же потом, как хандра отпустит, пенять начнет: «Отчего вовремя не давали?»
Се Петушков молодой, сошка мелкая, взойтить и подписи сыскать на те бумаги, отчаянный, вызвался.
Взошел.
Григорий Александрович сидит в кресле, взором в точку вперившися, небритый, нечесаный, в халате на груди распахнутом.
– Как звать?
– Петушков, Ваша Светлость!
– Что нужно?
– Подписи на важнейшие бумаги безотлагательные.
– Давай.
Взявши гуся перо, чиненное остро, Потемкин-князь молчком подписать изволил все бумаги до единой. Столпившиеся у двери в прихожей придворные, допреж немевшие со страху, теперича возрадовались и ну чуть ли не на руках героя качать: «Ай, Петушков! Ну, выручил! Ну, не убоялся!»
Бумаги-то, посыпавшися, раскрылись, а там на месте подписей повсюду:
«Петушков»,
«Петушков»,
«Петушков»,
«Петушков»...

|
|
Галльский петух щеголеватый |
Генерал-аншеф Дмитрий Иваныч, коего все и без фамилии узнавали, с Туркою в баталиях много отличившийся и тем благосклонность государыни снискавший, никак французского наречия, в моду при Дворе вошедшего, постичь не мог. Ни «эР» галльского петуха щеголеватого в нос пропустить с картавинкою, ни словеса затвердить иноземные Господь Дмитрию Иванычу не попускал.
Се приглашение в Зимний дворец на бал получает он с курьером верховым. А как Русский двор по-французски прытче самих маркизов изъясняться ловок стал, то хоть бы одною фразою, но обратиться к Екатерине-матушке на сем диалекте картавом Дмитрий Иваныч непременнейше за долг себе положил. А фразою выбрал: «Вы – царица бала!»
И говорит он русским разговором приятелю своему сметливому Куракину-князю Александру Борисовичу, зело во французском понаторевшему: «Ну, Саша, выручай!»
А Куракин-князь модник был превеликий. Достает он костяной гребень аглицкой ручной работы на Старой Бонд-стрит у Тейлора сэра самолично купленный. Расчесывает золотые кудри, вьющиеся ниже левого плеча. Расчесывает серебряные кудри, вьющиеся ниже правого плеча. Поправляет эполету бриллиантовую. Встряхивает кружевными манжетами брабантскими сквозного узора. Выбирает перо гуся шведского. Макает в чернильницу стекла венецианского и на бумаге белейшей рисовой, императором Японии подаренной, со всеми завитушками черкает, каллиграф, русскими буквицами: «Вузет ля рень дю баль!»
«Ну, Саша, спаси Бог!»
Вчетверо сложив листок, допреж духами французскими спрыснутый из флакона филигранного самим Александром Борисовичем, прячет бумажку за обшлаг камзола воин отважный и кучеру велит кучерявому погонять цуг ко Зимнему во всяк сезон дворцу.
А случись на том празднике государыни одна любимица – девка знатная, видная и страх какая вострая! Разглядела, что бумажка из генералова обшлага уголком торчит, да незаметно и выхватила сию из оного. Генерал хвать-похвать: нет записки, а слов и не помнит. Все от волненья из головы выскочили. А уж девка голосом его так по записке и чешет громче некуда: «Вузет ля рень дю баль!.. Вузет ля рень дю баль!..»
Государыня смеяться изволят. Придворные тем паче. Лакеи ливрейные, и те улыбаются. А дабы никому в обиду не было, царица бала оную фрейлину с храбрым генерал-аншефом в скором времени и обвенчала, пышностию окружив подобающей.

|
|
А Куракин-князь модник был превеликий Иллюстрации автора |
Ах, в италийских землях пригорки и долины страх как хороши! Посему две пригожие местные девки, на одном косогоре сидючи над прекрасной равниной и держа по куску воскового сота, вытягивали из клетчатых пор оного вязкий мед, стекленевший на солнце подобно янтарю. А насытившись, умасливать принялись за щекою толстую щеку маслом оливы из рощи, на том же косогоре растущей. И до того отяжелели, что уж сдвинуть с места упитанные и умасленные телеса свои даже не силились.
А как мимо проходить случилось седому старцу сухопарому, словно трость, и прыткости неимоверной, то они и вопросили: «Отчего такое не по летам завидное сложение имеете?» Старец вывернулся, встал на руки, перекувыркнулся и, к девкам тем подкатившись с разворотом, ответствовал: «Оттого, что сызмальства масло употребляю внутрь, а мед снаружи».
Выгодное сравнение
Сравни муравьиное яйцо с тварью, его породившею. Яйцо более твари. Тоже и слава мужа великого долее, чем собственно жизнь оного. Так, мыслю, и моя слава через потомков превзойдет отпущенные мне недолгие лета.




























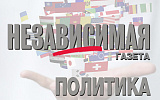

комментарии(0)