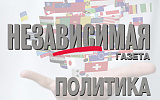«Толстой… описывал жизнь не такой, какая она есть, а такой, какая она должна быть».
Виктор Шкловский
Книга Шкловского «Энергия заблуждения» начинается очень хорошо: «Дом Толстого в Ясной Поляне стоит как-то косо».
Это блестящее начало.
Вообще, иногда кажется, что Шкловский в любой книге следует завету Олеши об ударных концовках (и началах) – пиши что хочешь, а в конце поставь: «Он шел, а в спину ему глядели голубые глаза огородов».
И вот перед публикой – шедевр.
Шкловский занимался Толстым всю свою жизнь. В 1928 году в журнале «Новый ЛЕФ» он опубликовал исследование «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Осип Брик писал об этой работе так: «Какая культурная значимость этой работы? Она заключается в том, что если ты хочешь читать войну и мир двенадцатого года, то читай документы, а не читай «Войну и мир» Толстого, а если хочешь получить эмоциональную зарядку от Наташи Ростовой, то читай «Войну и мир».
Это прошло через всю жизнь – Евгений Сидоров вспоминал: «Через год (то есть в 1968 году. – В.Б.) отмечалось столетие романа «Война и мир». В журнале родилась идея заказать юбилейную статью Шкловскому. Виктор Борисович воодушевился и предложил приехать к нему, дабы он подробно и наглядно, на схеме, поведал об ошибках Толстого в описании Бородинского сражения. Жаль, но пришлось отказаться от этого весьма нестандартного юбилейного проекта».
Шкловский пишет: «Надо стараться превосходить самого себя и перешагивать через свой вчерашний день.
Толстой описывает Бородино не с точки зрения военно-командующего, а с точки зрения Пьера Безухова, который как будто ничего не понимает в военном деле; военный совет Толстой описывает глазом девчонки, которая смотрит на этих генералов сверху, с печки, – как на спорящих мужиков, и она сочувствует Кутузову.
Толстой как бы не доверяет специалистам».
Шкловский рассказывал прекрасную историю о том, как в Ясную Поляну приезжают писатели и, конечно, устраивают застолье. Время этому – задолго перед войной, потому что среди участников упоминается Бабель. И вот в этом застолье новым барам прислуживает старый графский лакей, подливает вина.
Шкловский отказывается, но лакей все подходит с бутылкой.
Но лакей шепчет ему на ухо: «Его сиятельство так велели...» – и Шкловский замирает в удивлении.
А лакей объясняет, что его сиятельство велели подливать в бокалы, исходя из шума за столом. Где утихло, тем и подливать – «чтобы гости шумели ровно...»
Это тоже деталь – не поймешь, выдуманная или нет.
Его интересует в Толстом все, и любая деталь переосмысливается, примеривается несколько раз к своему месту – вот он вспоминает о том, что Толстой призывал к безбрачию, но тут же эта мысль прекращается и Шкловский говорит, что дело, наверное, в том, что Толстой ревнует своих и не своих женщин.
При этом он отмечает то, что у Толстого «несколько нравственностей»: одна нравственность – книжная, а другая – экономическая, в которой нужно брать деньги за покосы и порубы.
Биография Толстого написана именно как роман еще и потому, что Шкловский пишет ее через мелкие детали быта. Он рассказывает, что во время голода Толстой придумал делать хлеб особой рецептуры, то есть добавлять в него патоку. То есть хлеб становился более сытным, и патока позволяла экономить муку. Из этого получился хлеб, что теперь называют «Бородинским».
Звучит это несколько фантастично. Однако убедительно: Толстой – голод – война – Бородино.
Непонятно, как было на самом деле.
Деталь всегда убедительнее скучной логики истории.
Когда заходит разговор об истории, я часто вспоминаю известную шутку про то, как эстрадного комика спрашивают, как закончилась Вторая мировая война. Он отвечает, что американские десантники пробрались в какой-то театр и взорвали его вместе с Гитлером. «Вам в школе ничего не рассказывали?» – «Ну да, конечно, учительница нам говорила, что в мае 1945 года, когда советские солдаты вошли в Берлин... Подумайте сами, кому мы должны верить: толстой учительнице, которая душится освежителем для туалета или величайшему режиссеру современности?» Я это вспоминаю, когда речь заходит об изображении войны 1812 года Львом Толстым.
Чудо Толстого в том, что он силой своего слова создал ту историю, которая стала настоящей историей Отечественной войны.
Вот как устроено массовое восприятие этой войны: сначала июнь, чем-то похожий на беззаботное 21 июня 1941 года, а в это время Бонапарт переходил границу. Потом как-то сразу Бородино, горящая Москва. Отступая из Москвы, Наполеон (минуя Тарутино и Малоярославец) сразу оказывается на Березине. Потом что-то щелкает, и вскоре силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь – царем царей. Довольно много людей убеждены, что все успокоилось уже на следующую весну после Березины. Слово «Ватерлоо» тут вносит некоторую путаницу, потому что понятно, что там была Вивьен Ли, но что она там делала с Кларком Гейблом – непонятно.
При этом образ войны 1812 года создан двумя произведениями. Всего двумя – тысячи мемуаров и исследований провалились куда-то, а Отечественная война состоит из двух текстов – «Войны и мира» графа Толстого и пьесы «Давным-давно» Гладкова. Причем неизвестно, из кого больше.
Некоторые еще называют «Бородино» Лермонтова, но это уж из уважения к русскому национальному сознанию, чтобы все было в лад – роман, пьеса, стихотворение.
Александр Гладков был человеком чрезвычайно интересным, и эта пьеса как бы задавила все прочие его пьесы и стихи. Но приключилось еще то, что история кавалерист-девицы, девушки, переодетой юношей, взята напрокат из Шекспира. Сама Надежда Дурова романтического и привлекательного в себе несла мало. Это переодетая Виола среди русских осин. «Двенадцатая ночь» превратилась в «Двенадцатый год».
Гладков, замечу, изобрел еще поручика Ржевского. (Этот поручик потом породил советского д'Артаньяна и вообще множество персонажей.)
В анекдотах поручик Ржевский часто встречается с Наташей Ростовой. Некоторые горячие головы считают, что по логике своих создателей он служил в том же полку, что и Николай Ростов.
Но судить о полковой принадлежности по советскому фильму 1962 года, где мундиры причудливы, а цвета и вовсе удивительны, – не стоит.
Несколько русских городов спорят о Ржевском, будто о Гомере, – с каким из них связан прототип героя. Их десятки.
Веневский подпоручик Ржевский наряжается на маскарад печкой, причем «спереди был затоп, сзади отдушник. Кругом обоих закрытых пока отверстий были крупные надписи: «Не открывайте печку, в ней угар». В маскараде держали все себя очень вольно, а такая надпись поощряла всех открыть печку и в нее посмотреть. Всякий видел голые члены мужчины, спереди и сзади. Одни плевали, другие хохотали».
Но маскарадов, равно как уездных городов с изобретательными поручиками хватало.
Речь не об этом – о том, что великая книга о русской жизни смыкается не то что с пьесой – с опереттой, породившей сотни анекдотов не слишком приличного характера.
Тут хорошо отступить в сторону и процитировать дневник Александра Гладкова, человека, написавшего эту самую «Гусарскую балладу». Гладков прилежно вел этот дневник, печатал его на машинке, подклеивал фрагменты к нужным местам, и вот, в 1965 году он пишет о прошлогоднем номере журнала «Новый мир»: «У Левы есть уже № 12 «Нового мира», довольно интересный. В статье В. Шкловского о мемуарах Зелинского, в целом спорной, есть странное место. Он противопоставляет «увлекательную и кокетливую «Гусарскую балладу» воспоминаниям Дуровой как вымысел суровой правде. Но дело-то в том, что воспоминания Дуровой крайне неточны, как это доказал С.А. Венгеров, и их скорее можно назвать романтизированной автобиографией…» Самое интересное тут в том, что Шкловский пеняет автору «Гусарской баллады» за недостаточно точное следование мемуарам Надежды Дуровой. При этом сам Гладков парирует это тем, что никакого следования и не предполагалось: «Поверит ли мне кто-нибудь, если я признаюсь, что не имел терпения дочитать до конца «Записки кавалерист-девицы» Надежды Дуровой? Да что там – дочитать: перелистал несколько страниц и бросил». Или же сообщает своему брату: «…главный герой – поручик Ахтырского гусарского полка Дмитрий Ржевский выдуман весь целиком... Фон и колорит я считаю выдержанными безупречно с исторической точки зрения, а остальное – это моя фантазия, которую я в процессе работы тренировал Дюма-пером, Ростаном, Робертом Льюисом Стивенсоном и Иваном Петровичем Белкиным».
То есть это удивительное столкновение Шкловского, который сам не раз творчески преобразовывал историю, с Гладковым, который сознательно пишет анекдот, отправляясь не от мемуаров, а от мифологического образа времени.
Самое удивительное в том, что они оба следовали за Толстым.
Дело еще в том, что Толстой не писал историю, он ее создавал.
Мы как-то часто это не вполне понимаем, а ведь перед нами не собственно история, а созданный писателем мир.
Есть знаменитое место в романе, которое много поминали: «Обед уже кончился, государь встал, доедая бисквит, и вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.
– Ангел, батюшка! Ура! Отец!.. – кричали народ и Петя; и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья.
Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перила балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя лежала на земле: старушка ловила бисквиты и не попадала руками. Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура!» уже охрипшим голосом.
Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться».
Есть и не менее знаменитая цитата из Вяземского (ее тоже много кто приводит): «...а в каком виде представлен император Александр в те дни, когда он появился среди народа своего и вызвал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народом – глазам своим не веришь, читая это, – с «бисквитом, который он доедал». Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке (заметьте, какая точность во всех подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и (вероятно, желая позабавиться?) велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона... Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это – басня; если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I. Он был так размерен, расчетлив во всех своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что, вероятно, он скорее бросился бы в воду, нежели решился показаться перед народом, и еще в такие торжественные и знаменательные дни, доедающим бисквит. Мало того, он еще забавляется киданьем с балкона кремлевского дворца бисквитов в народ – точь-в-точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам. Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура – остроумная и художественная – должна быть правдоподобна. Достоинство истории и достоинство народного чувства, в самом пылу сильнейшего его возбуждения и напряжения, ничего подобного допускать не могут.
История и разумные условия вымысла тут равно нарушены...
Но идем далее; довольно и этой выписки, чтобы вполне выразить мнение наше».
Шкловский в статье «Война и мир» Льва Толстого (Формально-социологическое исследование)» замечает: «В раздражении Вяземского есть какое-то ощущение оскорбленного хорошего тона; причем в заметке Вяземского мы видим личный вызов Толстому. Вяземский требует доказательств. Толстой утверждал, что «везде, где у него есть исторические лица», он пишет на основании документов. Толстой вызов принял и написал Бартеневу, в журнале которого «Русский архив» была напечатана цитируемая статья… письмо».
Это были даже два письма, где говорилось, «что везде, где в книге моей действуют и говорят исторические лица, я не выдумывал, а пользовался известными материалами», и «Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки, посвященной государю императору». «Ежели вы не нашли того места, то только потому, что не брали в руки. …Пожалуйста, найдите и напечатайте. У меня на беду и досаду пропала моя книга Глинки». Но у Глинки ничего про эти бисквиты нет, а есть вот что: «Благовест продолжался. Государь двинулся с Красного крыльца. Двинулось и общее усердие. На каждой ступени, со всех сторон, сотни торопливых рук хватало за ноги государя, за полы мундира, целовали и орошали их слезами. Один кричал: Отец! Отец наш! Дай нам на себя наглядеться! Другие восклицали: Отец наш! Ангел наш!
...На Красном крыльце во время государева обеда происходил непрерывный прилив и отлив народа. Государь обращал взоры к зрителям и дарил их улыбкою приветливою. Июля 13-го Петр Степанович Валуев, находясь в числе приглашенных к обеду и привыкнув говорить с государем голосом сердечным, сказал: «Государь, смотря на вас и на народ, взирающий на вас, скажешь, что общий отец великого семейства – народа русского вкушает хлеб-соль среди радостной, родной своей семьи».
Тем Шкловский и заканчивает пример.
Комментаторы толстовского текста ссылаются на Эйхенбаума, который обнаружил нечто похожее в книге Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 г.», вышедшей в 1862 году: «... император, заметив собравшийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворенные окна на царскую трапезу, приказал камер-лакеям принести несколько корзин фруктов и своими руками с благосклонностью начал их раздавать народу». Эйхенбаум считал, что Толстой «описывал эту сцену на память и заменил фрукты бисквитом». Вероятнее другое – идеи Толстого требовали этой сцены (а она то и дело повторяется в разных странах и в разные времена), она ему была нужна, была естественна – и вот появилась.
Нельзя сказать, что Толстой описывает войну вольно. В русском языке это означает, что он небрежен с источниками. Вовсе нет, он источники знает, но сознательно интерпретирует иначе. Вот он пишет о том, что «Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия» – но это не так, он спорит с общественным мнением, что как раз к моменту написания «Войны и мира» воспринимало Бородинское сражение как результат гениальных решений Кутузова. А в рамках идей романа, лучше бы оно было результатом хаотических движений войск, подчиненных лишь провидению.
Парадоксально, но у Толстого Провидение, русский Бог, несет более смысла, чем исторические свидетельства.
Отечественная война становится более религиозной, чем можно вывести из мемуаров и документов.
Сейчас Толстого назвали бы постмодернистом. Если внимательно почитать, то видно, как он докручивает образы – вот был маршал Ней, признанный символ храбрости и самоотречения. У Толстого «Ней, с своим десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр».
При этом Ней прикрывал отход всей армии, дрался отчаянно и вывел остатки своих солдат по тонкому льду через Днепр, сам пойдя первым.
Его действия высоко ценил противник, то есть русские. Владимир Иванович Левенштерн (1777–1858), генерал и мемуарист, писал: «Ней сражался, как лев. Этот подвиг будет навеки достопамятен в летописях военной истории. Ней должен бы был погибнуть, у него не было иных шансов к спасению, кроме силы воли и твердого желания сохранить Наполеону его армию».
То есть Толстому нужно было показать, что военное искусство – только часть отвратительной стороны войны, наполеоновская машина порочна, так и маршал Ней со всеми своими эполетами и славой пал жертвой этого.
После своих рассуждений Шкловский делает главный вывод: «Война и мир» вообще носит на себе черты одновременно модернизирования героев и их архаического идеализирования».
На самом деле Шкловский отстаивает не право Толстого на интерпретацию, он отстаивает право на «энергию заблуждения», в том числе на свой метод описания мира, в котором вслед Толстому много этой энергии и много заблуждений.
Как расскажешь, так и будет. Все определяется свойствами рассказчика.
История, которой мы питаемся, ими и создается.