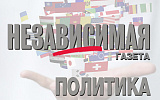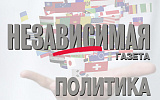Капитализм и театр в современной России ≈ тема не для слабонервных приверженцев театральной старины. Она неминуемо сводится к разговору о деньгах ≈ бюджете, надбавках, гонорарах и тому подобных специальных материях, рассуждать о которых должны специалисты сценического менеджмента. А если об этом заводят речь обыкновенные смертные, то в их изложении бесконечные сетования на недостаток финансирования превращают театр не то в Паниковского, уныло бредущего за бизнесом и тупо твердящего: «Дай миллион, ну дай миллион┘», не то в Мерчуткину, назойливо пристающую к властям: «Войдите в положение, Ваше превосходительство┘»
Диалог о деньгах (с властью или бизнесом ≈ все равно) слишком напоминает парное рассогласование смыслов в предложении: «Шел дождь и два студента, один в кино, другой в калошах». Впрочем, согласование смыслов труднодостижимо еще и потому, что капитализм у нас развивается крайне неравномерно, и какой-нибудь Борисоглебск отстает в своем развитии от обеих столиц лет на сорок или на шестьдесят по меньшей мере. В подтверждение ≈ невыдуманная картинка, увиденная однажды в самой что ни на есть доподлинной реальности. Моя приятельница ≈ директор Музея-усадьбы А.Н.Островского ≈ пригласила меня полюбоваться на только что приобретенный ноутбук, чудо последнего поколения. Пока я к ней шла, произошла самая обыкновенная для российской глубинки история: что-то случилось на подстанции, и село Щелыково погрузилось в непроглядную тьму. Почти на ощупь я добралась до нужного дома, вошла в него и обомлела: ярчайшими красками переливался монитор компьютера, а перед ним ровным и теплым светом горела свеча, освещая листы бумаги, чашку с дымящимся кофе, пепельницу с непогашенной сигаретой┘ С одной стороны, эта картинка красноречиво свидетельствовала о парадоксах и контрастах русского капитализма, сводящего воедино старую добрую лучину с порождением новейших технологий, а с другой стороны, это сочетание было чудо как хорошо и по-настоящему красиво.
Если эту картинку перевести на современную театральную ситуацию, то получится примерно следующее. В век высоких технологий (звучит почти как «высокая мода») меняется реальность человеческого быта и бытия: наряду с реальностью действительной жизни созидается реальность виртуальная, претендующая на то, чтобы вытеснить и подменить собой живую жизнь.
Virtual Reality стремится производить впечатление действительной, наличной, фактической реальности. Между тем латинское слово Virtues означает вовсе не реальный, а как раз потенциальный, мнимый. Привычно связываемая с компьютерными технологиями, виртуальная реальность проникает на сцену как привычная форма организации сценического пространства, как удвоение зрелищной стороны дела, возведение ее в квадрат, в куб. Наш театр спешит использовать в своих целях едва ли не все, что предлагает ему век высоких технологий. Многие постановщики выбрасывают живой огонь свечи за ненадобностью, полагаясь на компьютерные световые установки и развешивая экраны по всей сцене там, где это нужно и не нужно. Оправдание тут в стремлении отбить зрителя у шоу-бизнеса и видеоиндустрии, победив впечатляющую зрелищность любого высокотехнологичного зрелища его же оружием: яркой красочностью сценографии, энергией музыкально-звукового оформления, драйвом сценического действия, медийностью исполнителей.
И что же?
На сцене высокие технологии теснят искусство живого актера, упрощают его психотехнику, делают краски актерской живописи крикливыми и агрессивными. Неврозы, истерические состояния, астенические синдромы, болезни психики, парадоксы наркотического бреда и прочие симптомы «измененного сознания» ≈ это наши артисты умеют передать со сцены достаточно убедительно. Однако в стремлении переиграть высокотехнологичное оформление сцены и перекричать музыкально-звуковые децибелы актер вынужден поступаться осмысленным и членораздельным воздействием на партнера и работать впрямую на публику. Так сценический темперамент чем дальше, тем больше подменяется неопределенной, но бурной актерской «энергетикой». Все чаще на наши сцены выходят «ментовские Гамлеты» и «подъездные Катерины», а умение «внедряться» в психику другого человека, перевоплощаться в авторского персонажа встречается всё реже и реже. В эпоху умножения виртуальных реальностей слово пустеет на театре, из него вымывается реальная содержательность. Оно становится малоценным.
Звучание оказывается важнее значения, выкрик важнее смысла, а уж о красоте тембра или интонационном богатстве и говорить не приходится. Неумение думать «длинно» и чувствовать «объемно» в роли приводит актера к рваной сценической речи: мысли и чувства уже кончились, а текста осталось еще много, вот он и рвется, сминается, скороговорится ≈ не в нем дело, а в той самой энергетике, которая заменяет собой едва ли не все профессиональные умения артиста.
Вместо создания образа зрителю предъявляется «нарезка» элементарных эмоциональных состояний: общее страдальческое выражение лица чередуется с общим радостным выражением лица ≈ вот и все премудрости актерской психотехники. Можно ли с таким актерским багажом выполнить едва ли не самую важную задачу: показать со сцены объемно и достоверно психологию современного человека, «врастающего» в капитализм? Ведь именно артисту самой сутью его профессии предназначено явить глазам зрителя современного человека таким, каков он есть в реальности действительной жизни.
Некогда Немирович-Данченко сформулировал для Художественного театра задачу: показать революцию не через размахивание красными флагами на сцене, а через глаза человека. Это оказались трагические глаза Алексея Турбина ≈ Хмелева, чей глубокий взгляд и сегодня волнует нас, пронизывая время насквозь. Чьи глаза смогут выразить наше время через годы? По кому из актеров будут судить о нас наши потомки?
Идея, выступающая под маркой БОР (бюджет, ориентированный на результат), в театре не может быть понята прагматически. Театральные переживания ≈ дело насквозь идеальное, и без доли идеализма театр вряд ли возможен как художественный организм.
Приведу в порядке иллюстрации только один случай, происшедший в Малом театре на спектакле «Трудовой хлеб». Перед началом представления в зал вошел деловой человек новой формации: дорогой клубный пиджак, золотая цепь на шее и золотая печатка на пальце, в руках ≈ непомерного размера букет в целлофане. Заняв свое место, немедленно стал говорить по телефону. Он производил впечатление глубоко нетеатрального человека и казался социально опасным типом, вошедшим в театр прямо из анекдота о «новых русских». Увлеченная замечательной игрой артистов, я упустила его из внимания, но в кульминационный момент представления этот человек сам напомнил о себе.
Героиня ≈ милая и безобидная «бедная невеста» ≈ с полной доверчивостью вынесла на платочке деньги, объяснила, что они «заветные», завещанные покойной матерью на приданое, и протянула их жениху. А он, как водится у Островского, был аферистом и пройдохой, что уже было понятно всем и каждому в зрительном зале. В этот самый момент наш сугубо деловой и наверняка предельно прагматичный персонаж из публики, ударив правой рукой по коленке, отчаянно выговорил, обращаясь к наивной героине: «Не давай!..»
Вокруг, конечно, засмеялись, но это был добрый смех, потому что сожаление о безрассудстве неопытной девушки в этот момент владело каждым из нас, и мы все, сидящие в зрительном зале, хотели добра и блага той, которая успела завоевать наши симпатии. Это был момент полного торжества театрального идеализма ≈ пробуждения силой искусства того лучшего, что таится в каждой человеческой душе, вне зависимости от образования, социального статуса или финансового ценза.
Театру ныне приходится вступать в конкуренцию с самыми разнообразными зрелищными показами, представлениями, шоу и концертами. Но соревноваться театру тут бесполезно. «Ирода не переиродить», зрелищнее зрелища театр быть не может. Даже в обширных зрительных залах (вроде Малого или Александринского театров) природа и механизм восприятия сценического представления принципиально иные, чем в самом маленьком эстрадном зале. Существо дела состоит не в количестве зрителей (хотя и в этом тоже), а в механизме зрительского восприятия театрального и эстрадного представлений. Условно говоря, на эстрадном представлении невозможно представить чей-то одинокий смех, а в театре это часто случается и не вызывает удивления. В отличие от эстрадного представления спектакль обращен не ко всему зрительному залу, а к каждому зрителю отдельно и рассчитан на индивидуальные реакции, которые сливаются в единое эмоциональное переживание, не теряя своей индивидуальной природы.
Вступая на путь соревнования с шоу всех мастей и расцветок, театр обрекает себя на небытие. Нечто подобное уже было в истории: театр Древнего Рима попытался втиснуться в развитую городскую индустрию зрелищ хотя бы на правах краткого мимического сюжета и проиграл. Гладиаторские бои, цирковая борьба, театрализованные морские бои и спортивные игры сначала минимизировали театральные формы, затем потеснили их в сознании римлян, а потом попросту сожрали театр как таковой. И театр возродился только спустя несколько столетий. Есть ли у нас в запасе хотя бы пара десятилетий?