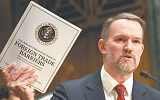Здание Пензенского театра сверкает, потому что новенькое.
Здание Пензенского театра сверкает, потому что новенькое.
Фото РИА Новости
В Пензе в театр ходят. В антракте по фойе прогуливаются девушки модельной внешности, рассматривают фотографии актеров, многих знают – Каплан, Старовойт, Казаков... Сергей Казаков – актер и нынешний худрук, молод и необыкновенно энергичен, в «Ревизоре» играет Городничего. Мы стоим разговариваем у служебного входа, мимо – опять же девушки, останавливаются, уставившись на него. Спрашивают – можно ли подойти, потрогать... Правда – подходят, трогают Казакова за руку, и я не могу сказать, чтобы тот отнесся к происходящему равнодушно. Актер!
Театр в Пензе появился еще в конце XVIII века, но нынешнее здание – только-только построенное, еще на гарантии: гарантия на театр, я недавно выяснил, меньше, чем на Chevrolet, Hyundai или Opel. На машины дают уже три года, а на здание нового театра – только два. Новый театр в Пензе появился после того, как полностью сгорел старый. Давным-давно, кажется, еще при жизни первого наркома просвещения, пензенскому театру присвоили имя Луначарского. Так и живут – не тужат. Внутри – все по последнему слову техники, в туалетах – чистота, почти что больничная, умывальники – на фотоэлементах, снаружи и внутри – мрамор и гранит, все блестит, как на только что открывшейся станции московского метро. Красиво. Казаков, помимо того, что актер, с гордостью в первый же вечер везет в свой ресторан, у него их в Пензе даже несколько, но все-таки актер он – в первую очередь: сыграл Городничего и не спрашивает, но видно – ждет, что скажут. Похвалят? Скажут, что хорошо? Что просто хорошо или что гениально? Справедливости ради, он радуется, слушая, как хвалят его жену, Альбину Смелову, которая в «Ревизоре» сыграла городничиху и в итоге получила награду за лучшую женскую роль.
Спектакль поставил в Пензе наш московский Валерий Белякович, особо мучить ни Гоголя, ни свою фантазию он не стал, хотя в городе легенды ходят, КАК он кричал на репетициях: «Микрофон в стенку бросал, а микрофоны у нас дорогие, каждый – по 100 тысяч!..»
«Театральное Поволжье» – фестиваль, который проходит впервые, обещают, что станет теперь ежегодным и каждый раз будет проходить в другом городе. На церемонии открытия пензенский губернатор быстро сориентировался и поприветствовал фестиваль, который через 14 лет снова вернется в Пензу. В этот раз приехали театры из соседнего с Пензой города Заречного, из Уфы, из Саранска, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода...
Днем, пока новый театр ставил декорации, пробовал звук незнакомой сцены, в малом зале читали новые пьесы, руководил этой лабораторией Михаил Угаров, пьесы отбирали специально – более или менее местных авторов, поволжских. Актер, который накануне сыграл Хлестакова, взялся за читку пьесы Вадима Леванова о Салтычихе. Жанр ее кто-то, кажется, как раз Угаров, остроумно определил как порнохоррор. Без возрастных ограничений для зрителей, если кто возьмется ее поставить, тут не обойтись. А с другой стороны – пьеса получилась патриотическая, но этот патриотизм отчасти в духе открытий конца 40-х – начала 50-х, когда подряд обнаруживалось, что все на свете впервые было придумано в России. Из пьесы Леванова, несомненно, следует, что фантазии маркиза де Сада – детский лепет в сравнении с тем, что за полвека до него придумано и на практике было освоено московской дворянкой, к тому же родственницей всех знатных московских родов, Салтычихой, которая последние годы провела в заточении в Высоко-Ивановском монастыре, вблизи Китай-города. Боевая бабка была.
Казаков – из тех, в ком энергия бьет ключом, вдохновленный удачной читкой, он тут же пообещал взять пьесу в репертуар и выпустить в следующем же сезоне.
Ульяновский ТЮЗ, имеющий, кроме того, еще одно название – «Nebolshoy театр», привез спектакль по рассказам Шукшина. В нем, что часто отличает именно провинциальные театры, запоминаются именно актеры, а в их игре – замечательные, точные детали. В «Сапожках» – как герой Артемия Курчатова выбирает в магазине сапоги, нюхает даже, подносит к глазам и глядит – ровное ли голенище, как в иных случаях проверяют остроту наточенной косы, а приятель его прежде, чем взять красные лакированные сапожки, отирает руки. А когда жена спрашивает, откуда сапожки, он не шепотом, но тихонько, чувствуя уже свою вину за эту странную, диковинную покупку, отвечает на выдохе: «Купил». И тут же как будто сжимается весь. Как верно заметила на обсуждении критик Вера Максимова, – шукшинской деревни, где эти герои жили, где один, Андрей Ерин, купил на все скопленные деньги микроскоп, а другой, Сергей Безменов, от несчастной любви отрубил себе пальцы, – этой деревни уж нет. А в спектакле – она есть, и Безменов, и Ерин, и поступки их несуразные, все себе во вред, и какая-то бедовая жизнь, и мысль – что купишь микроскоп, найдешь управу на микробов и... «Ты спала когда-нибудь с ученым?» – спрашивает Ерин у жены, та на него – чуть не с кулаками. А он – о другом ведь: не спала – так будешь. Он же теперь – ученый, ну, может, не совсем еще, но без пяти минут точно.
Триумф провинциальной актерской школы, в России – великой, – в спектакле «Дядя Ваня» знаменитого Нижегородского академического театра имени Горького.
 Профессор Серебряков – Георгий Демуров готовится взять паузу... Фото с сайта Нижегородского академического театра драмы |
Чеховскую пьесу в Нижнем поставил москвич Валерий Саркисов. Когда-то начинал в, казалось, одной обойме с Владимиром Мирзоевым, Александром Пономаревым, Михаилом Мокеевым, потом, впрочем, как и другие из этого же списка, как будто исчез, сошел с круга. Не исчез. Ставит в провинции.
В спектакле много такого, что правильнее всего назвать режиссерским своеволием, самоуправством. Почему дом Войницких представляет собой корабль, а дядя Ваня выходит в капитанской форме со спасательным кругом через плечо? Почему все происходящее сопровождают навязчиво арии и хоры из «Евгения Онегина», хотя имени Чайковского в программке нет? Почему Елена Андреевна орет на профессора-мужа, как кухарка, хотя, следуя Чехову, воспитывалась в аристократической семье? Таких «почему» скапливается немало, но одновременно с тем, как умножается неудовольствие от своевольной режиссуры, увлекаешься актерами, двумя – особенно. Один играет доктора Астрова (Сергей Блохин, ему досталась награда за лучшую мужскую роль), другой, Георгий Демуров, – профессора Серебрякова. Астров у Блохина – мужик. Одновременно и деревенский, которого легко вообразить меняющим колесо у поломавшейся по дороге из одной деревни в другую телеги, и мужик, способный вскружить голову, свести с ума местных барышень, разве не Елену Андреевну, у которой – свой крест, свой опереточный гений. Демуров, который и народный артист, и лауреат многих премий, а еще и худрук Нижегородской драмы, – не разыгрывает, а выпевает роль, его монологи звучат как речитативы, и сложные модуляции свидетельствуют о наличии ему известной партитуры. О, этот профессор, может, и не двинул науку вперед, может, и прав дядя Ваня, когда судит его строго, но этот Серебряков, конечно, тоже сводил с ума студенток, которые наверняка носились за ним толпами и, открыв рты, внимали каждому его слову.
Минут за пять до финала, когда все уже готовы распрощаться, а Серебряков с женой наконец окончательно и бесповоротно покинуть деревенский дом, к профессору кидается Вафля с просьбой надписать одну из многих его научных брошюр. Демуров хмурится, берет в руки перо и начинает писать. Эту сцену можно назвать реваншем великой русской провинциальной актерской школы, ее ответом на бессмысленные режиссерские фантазии, в которых не раз терял смысл чеховский текст. Точно каждое новое слово придает ему силы, он пишет и пишет, пишет и пишет. Так проходит минута. Смех в зале становится дружнее, и скоро раздаются первые аплодисменты. Демуров продолжает писать, ни на секунду не теряя сосредоточенного вида, напротив, как будто распрямляясь и становясь тем профессором, в которого влюбилась когда-то мать Войницкого, но равно и тем, которого возненавидел теперь ее сын, дядя Ваня. Как есть. Новые аплодисменты. Еще минута или даже полторы – это все много дольше, чем то, что принято называть мхатовской паузой. Третьи аплодисменты, но – не от усталости, не от желания, чтобы профессор поставил точку и наконец уже уехал, освободил всех от себя, – от неправильной жизни, сбитой с принятого распорядка дня. Он мог стоять еще пять минут, мог, наверное, и десять. И зал бы смотрел на актера, стоящего на одном месте и что-то там выводящего мелкими буковками на титульной странице своей книжки. Наконец он ставит точку. Затем еще что-то дописывает, не торопясь, расписывается и произносит последние свои хрестоматийные реплики – про то, что надо дело делать, господа. И – уходит.
Вот это мастерство!