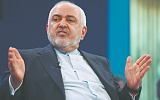Население неразвитых стран приезжает поближе к 'трубе'.
Население неразвитых стран приезжает поближе к 'трубе'.
Фото Андрея Никольского (НГ-фото)
«Мы – низшие организмы в международной зоологии: продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову», – писал В.О. Ключевский. Давно распался Советский Союз, однако выработанные в годы его существования политические инстинкты продолжают управлять российским левиафаном, заставляя зоологически простейшим способом – рефлексивно – реагировать на современные вызовы, в том числе демографические.
Падает рождаемость? Простимулируем ее мерами государственной поддержки. Участились случаи межнациональной розни? Усилим интернациональное воспитание, то бишь толерантность. Растет трудовая миграция из Азии? Отрегулируем ее в духе советского опыта управления «лимитчиками».
Хлеба и зрелищ
Мы убеждены, что Россия по-прежнему великая держава и для нее характерны те же процессы, что и для ведущих зарубежных государств. Да, падает рождаемость, но это общеевропейская тенденция, говорят нам. Да, усиливаются миграционные потоки, но с ними нет смысла бороться, поскольку это объективный и неизбежный процесс. Россия испытывает то же, что переживают сегодня Северная Америка и Европа.
Полезнее, однако, задуматься о существенных различиях протекающих процессов.
Современный человек, особенно женщина, стоит сегодня перед нелегким выбором: завести ребенка или сделать интересную карьеру. И многие отдают предпочтение второму. Вот только живет этот современный человек в подавляющем большинстве случаев в Северной Америке и Европе. В России же население следит за интересной и творческой работой в основном по сюжетам телесериалов и иллюстрированным журналам. Может быть, поискать причины падения рождаемости у нас в другом?
Они достаточно просты, если соотнести демографическую ситуацию с ситуацией в сегодняшнем разделении труда. Здесь есть ведущие страны – Северная Америка, Европа, Япония, – сконцентрировавшие у себя рычаги управления мировым хозяйством и взимающие за это неплохую ренту; индустриальные страны – основные производители, например, Китай, Индия; и, наконец, страны, в том числе Россия, принявшие по своей или по чужой воле роль поставщиков сырья.
За 90-е годы ХХ века ВВП России снизился вдвое, составив к концу периода примерно 1/10 от американского и 1/5 от китайского показателя. На долю ТЭКа ныне приходится свыше трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, две трети экспорта и валютных поступлений страны. В то же время для производства и транспортировки сырья требуется не так много рабочей силы. Отсюда - феномен «лишнего» населения. Средств, получаемых от продажи сырья, вполне достаточно для его содержания. Как на дрожжах растет армия бюджетников и чиновников, занятых распределением средств от природной ренты. Одновременно стремительно растет уровень люмпенизации населения, лишившегося основного вида социальной деятельности – трудового.
Зададимся простым вопросом: почему человек заводит детей? Если не принимать во внимание случайности и биологические инстинкты, то реальная социальная причина – стремление передать ребенку свои неосуществленные мечты и желания вместе со средствами их достижения – системой труда и собственностью. Что может передать своим детям люмпен, исключенный из системы общественного производства? Недоигранные компьютерные игры и недосмотренные телешоу? Отказ многих сегодняшних россиян от деторождения не только объясним, но и оправдан. И никаким государственным стимулированием деторождения эту ситуацию не изменить.
При взгляде на сегодняшнюю Россию трудно удержаться от аналогий с периодом поздней Римской империи. Потерявшие свои земли римские граждане бросали занятия сельским хозяйством, уходили в города, становясь люмпенами, но при этом сохраняли политические права, а также возможность достаточной государственной поддержки за счет труда огромной массы рабов. Именно тогда рождается лозунг «Хлеба и зрелищ». Дармовой хлеб из Египта и гладиаторские бои играли в Древнем Риме ту же роль, что сегодня для массы нашего населения – продажа газоводородного сырья и телевидение. «Хлеба и зрелищ» – это и есть реальная государственная идеология современной России.
Тогда же в Риме встает проблема снижения рождаемости, отвращения к браку и соответственно снижения числа свободных. Цезарь, а затем Август предпринимают многочисленные шаги законодательного побуждения к браку: из всех кандидатов на общественные должности предпочтение давалось отныне тем, кто имел больше детей; бездетные граждане не получали наследства; овдовевшие супруги обязывались вступать в новый брак и тому подобное. Все эти строгие меры, принятые в целях увеличения народонаселения, не имели, однако, желаемого действия. Как справедливо по этому поводу заметил Мальтус, «если бы из страны удалили половину рабов и римский народ вследствие этого мог бы приложить свои силы к искусствам и земледелию, число граждан быстро возросло бы и такого рода поощрение оказалось бы действительнее для роста народонаселения, чем все законодательные меры». Фраза вполне применима к современной России, только роль дармового труда рабов заменяют нефтедоллары.
Если уровень рождаемости у нас такой же низкий, как в Европе, то уровень смертности – такой же высокий, как в Азии. По этому показателю Россия входит в последнюю треть из 50 азиатских стран. Вымирание основного этноса (русских) происходит у нас еще более высокими темпами, нежели в странах Европы.
Сегодня эту ситуацию исследователи называют не иначе как демографической катастрофой. Соответственно предлагаются многочисленные рецепты стимулирования рождаемости. Перечислены они и в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года». Неясно только, какой смысл увеличивать рождаемость при наличии и без того «лишнего» населения.
Нетрудовой характер миграции
Казалось бы, факту существования этого «лишнего» населения противоречит массовый приток мигрантов в Россию. При этом звучат утверждения о крайней нашей заинтересованности в рабочих руках мигрантов и даже о необходимости конкуренции за них с другими странами. Одновременно в многочисленных публикациях и высказываниях всячески подчеркивается, что мигранты берутся за ту работу, от которой коренное население отказывается. Если численность иммигрантов в России сегодня, по разным источникам, варьируется от 5 до 15 млн. человек, то утверждается, что нужно довести ее до 35 млн. человек.
Только вот странность: при взгляде на географию миграции мы видим, что ее центрами являются мегаполисы и трудоизбыточные регионы, такие, например, как Ставропольский и Краснодарские края, а не российское Нечерноземье, испытывающее потребность в рабочих руках.
Оказывается, что основная масса иммигрантов предпочитает заниматься не производством, а тем же, что и основная масса коренного населения: перераспределением дохода, получаемого от «трубы». Иногда посредством торговли, а иногда незаконными путями.
Из России так называемые мигранты вывозят ежегодно до 15 млрд. долл. Только неуплата налогов лишает страну ежегодно 8 млрд. долл. Почти 50% наличной валюты у нас продается иностранцам. Причем иммиграция стимулирует рост теневой экономики, втягивает в него коренное население.
Конечно, часть иммигрантов действительно работает на производстве, в отраслях, куда не идет коренное население. Возникает вопрос: а своим не пробовали платить достойную зарплату или организовать человеческие условия труда? Не пробовали. И не будут. Работодатели избавлены от необходимости сделать наконец труд на объектах привлекательным для граждан их страны. Результатом становится консервация нецивилизованных форм труда в целых отраслях.
Какова основная причина того, что Россия больше проигрывает от миграции, чем выигрывает?
Наше главное отличие от Запада в том, что там миграция является трудовой и конкурентоспособной. Мигранты же, оказавшиеся в России, становятся таким же «лишним» населением, как и коренные жители. И так же содержатся за счет перераспределения средств от продажи ее сырьевых ресурсов. Если для населения развитых стран Россия отправляет свои нефть и газ по трубам, то население неразвитых стран поступает еще проще: само приезжает поближе к «трубе».
Специфический характер миграции в Россию определяет и отношение к ней коренного населения. Наше национальное сознание сегодня модно описывать в терминах психопатологии. Но автору этих строк приходилось проводить исследования в ряде регионов страны, и он может утверждать, что современные россияне – люди, мыслящие вполне рационально. Они пережили столько политических режимов, что давно ничему не верят и не обременены никакими предрассудками, в том числе националистическими, имперскими и пр. Высокий уровень мифологизации сознания нашего населения – сам по себе уже миф. Таким же мифом является и пресловутая ксенофобия.
Дело в том, что у нас нет для нее важнейшей – экономической – причины: боязни потерять из-за иммигрантов работу. Иммигранты в сегодняшней России не составляют особой конкуренции коренному населению на рынке труда. Узнав об очередном землетрясении в Японии, простые сибиряки говорили: «Что эти японцы на своих островах мучаются? Пусть к нам приезжают. На всех места хватит». И этих людей вы назовете ксенофобами?
Коренное население очень четко отделяет тех, кто приезжает работать, от тех, кто предпочитает другие пути выживания, культивируя антисанитарию, вызывая рост преступности и наркомании. Последних действительно не любят. Вот только где здесь фобии? Это адекватная реакция людей на конкретную опасность. Одно отношение – к китайцам, хищнически истребляющим сибирские леса, совсем другое – к тем же китайцам, организующим реальное производство, например, в сельском хозяйстве.
К новой колонизации!
Если говорить об объективном интересе населения России, то он – не в маятниковой миграции, а как раз в полноценной колонизации территории теми народами, которые придут сюда со своими технологиями и собственными трудовыми ресурсами.
Здесь также уместна историческая реминисценция. В связи с убылью населения римляне селили варваров с периферии целыми семьями и племенами. К концу империи чистокровных римлян практически не осталось. Даже последние императоры – из числа варваров. Выглядит печально, если не знать, что от момента эдиктов Цезаря и до падения Западной Римской империи прошло еще полтысячи лет, и за это время она пережила не один период расцвета. И условием этого стала фактически колонизация империи варварскими племенами, составившими основу хозяйственного производства и поголовный состав римской армии.
В свое время Питирим Сорокин назвал определяющей чертой русской нации в ХХ столетии способность к выживанию. Может быть, способность к ассимиляции – продолжение этого свойства в ХХI веке? И стоит ли поэтому так уж беспокоиться о чистоте расы и твердить о депопуляции? Например, Ханты-Мансийский округ привлекателен для мигрантов, и в некоторых его нефтеносных районах нерусские национальности составляют уже половину населения. Они говорят на русском языке, их дети ходят в русские школы, заключаются межнациональные браки, и население о собственной «депопуляции» читает только в газетах.
Так что нужно сделать для предотвращения национализма и паразитирующих на нем маргинальных политических движений? Только одно: обеспечить трудовой характер миграции и тем самым ликвидировать или хотя бы резко снизить преступность и торговлю наркотиками, связанную с мигрантами. Попробуйте этого добиться, и, уверяю вас, исчезнет или столь же резко снизится то, что именуют ксенофобией.
Именно на этот шаг и неспособно сегодня государство. Поэтому оно с такой охотой поддерживает разговоры об опасности фашизма и национализма. На них можно списать собственную немощность. В результате все при деле: ученые, получив финансирование исследований, разыскивают у населения несуществующие фобии, а чиновники заседают в президиумах конференций по искоренению ксенофобии и повышению толерантности.
Поражает готовность приписывать себе чужие ксенофобские грехи и чужие проблемы. У нас что, своих не хватает?
Недаром В.О. Ключевский заметил, что «сказка бродит по всей нашей истории». Освобождение от сказок о собственной истории – это первое, с чего надо начинать разбираться с нашими общественными проблемами. В том числе и с демографическими. В чем заключаются действительные причины снижения рождаемости, что реально стоит за усилением потоков мигрантов в Россию и в чем истинная природа ксенофобии? Вот на какие вопросы необходимо ответить. И при этом не заниматься проекцией на себя чужого опыта и рефлексией по поводу особой миссии России.