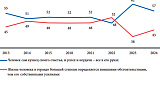Уэллс, сфотографированный женой (1920-е).
Уэллс, сфотографированный женой (1920-е).
Фото предоставлены издательством «Ладомир»
Сегодня мы публикуем отрывок из книги «Влюбленный Уэллс». Издательство «Ладомир» выпускает ее в знаменитой серии «Литературные памятники». Переводчик Раиса Облонская подарила русскоязычному читателю радость встречи с «Опытом автобиографии» Уэллса. У писателя было два тома мемуаров. Однако ни литературоведы, ни поклонники до некоторых пор не догадывались, что существовал и третий том воспоминаний, в котором Герберт Уэллс красочно описал всех своих возлюбленных, оставив завещание, запрещающее публиковать рукопись раньше, чем уйдут из жизни все упомянутые в ней дамы.
Страницы «Влюбленного Уэллса», посвященные роману писателя с Марией Будберг, сотрудничавшей с НКВД, с английской и немецкой разведками – блестящий литературный портрет Муры. Измученный многолетним «иррациональным притяжением» и действительно по-настоящему влюбленный, Уэллс пытается раскрыть загадку магнетизма личности малопривлекательной женщины, которая много лет занимала его воображение и заставляла с наивностью неискушенного юноши добиваться законного брака с ней.
Герберт Уэллс
В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, мне думается, нет и намека на самообман. Очень и очень многие любят и обожают ее, восхищаются ею и жаждут доставить ей удовольствие и служить ей. И однако довольно трудно определить, какие такие свойства составляют ее особость. Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан; ей сорок три года (1934 г.), в темных волосах седые пряди; она слегка склонна к полноте; очень быстро ест, заглатывая огромные куски; пьет много водки и бренди, что по ней совсем не заметно, и у нее грубоватый, негромкий, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее черная, видавшая виды сумка, которая редко застегнута как положено. Руки прелестной формы, всегда без перчаток и часто весьма сомнительной чистоты. Однако почти всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно, причем не только на мой взгляд, оказывалась и привлекательнее, и интереснее всех остальных. Женщины влюблялись в нее с первого взгляда, а мужчины спрашивали о ней и говорили о ней, делая вид, будто не так уж она их и заинтересовала.
Мне думается, людей прежде всего очаровывает известная вальяжность, изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Карие глаза всегда смотрят твердо и спокойно, татарские скулы придают лицу выражение дружелюбной безмятежности, даже когда она поистине дурно настроена, и сама небрежность ее платья подчеркивает ее силу, дородность и статность фигуры. Любое декольте обнаруживает свежую и чистую кожу. В каких бы обстоятельствах Мура ни оказалась – а я видел ее в весьма непростых обстоятельствах, – она никогда не теряла самообладания.
Я пытался запечатлеть на пленке хоть что-то от ее внешней прелести, но фотоаппарату это не давалось. Ни к кому из тех, кого я знал, он не был так враждебен. На фотографии от Муры мало что остается; лишь моментальный снимок в полный рост дает хоть какое-то представление о ее замечательной осанке и еще один, в полупрофиль, – о загадочной детской прелести пребывающего в покое лица. Обычно же на фотографии чистое уродство: лицо дикарки с маленьким, приплюснутым, сломанным в детстве носом и раздутыми ноздрями. Она невероятно походит на портреты своего предка Петра Великого. Однажды я заказал ее портрет художнику Роджеру Фраю в надежде, что он сумеет уловить ту Мурость, что делает Муру Мурой. Он взялся за дело с жаром; по его словам, у него никогда еще не было такой очаровательной модели; и он написал портрет непривлекательной женщины, которая с неудовольствием вглядывается в свое будущее. Я поспешно отдал портрет одной из ее приятельниц, та повесила его в столовой, но, промучившись несколько дней, выставила на чердак, лицом к стене.
Мы оказались с ней на одном званом обеде в Петербурге в 1914 году – она об этом помнит, а я нет, – но познакомился я с ней и обратил на нее внимание в квартире Горького в Петербурге в 1920 году. Она была в старом плаще цвета хаки, какие носили в британской армии, и в черном поношенном платье, ее единственный, как оказалось, головной убор представлял собою, я думаю, не что иное, как черный скрученный чулок, и, однако, она была великолепна. Она засунула руки в карманы плаща и, похоже, не просто бросала вызов миру, но была готова командовать им. Ей было тогда двадцать семь; представление о жизни она получила в дипломатическом мире Петербурга и Берлина; c одним мужем, Энгельгардтом, она разошлась; c ее вторым мужем, Бенкендорфом, зверски расправился эстонский крестьянин; у нее был потрясающий роман с Брюсом Локкартом, о котором он подробно рассказал в книгах «Мемуары британского агента» и «Уход от славы»; она попыталась сбежать в Таллин, чтобы соединиться там со своими детьми, просидела полгода в тюрьме и была приговорена к расстрелу. Но ее освободили. Теперь она была моей официальной переводчицей. И она предстала передо мной любезной, несломленной и достойной обожания. Я влюбился в нее, стал за ней ухаживать и однажды умолил ее, и она бесшумно проскользнула через набитые людьми горьковские апартаменты и оказалась в моих объятиях. Я верил, что она меня любит, верил всему, что она мне говорила. Ни одна женщина никогда так на меня не действовала.
Одинаково трудно сказать что-либо определенное и об ее уме, и о нравственных устоях, хотя я стараюсь изо всех сил. Я поймал ее на мелком вранье и на уменье довольно долго утаивать правду. И то и другое, мне кажется, часто никак не мотивировано. Она обманывает непреднамеренно. Просто такая у нее манера – небрежно обращаться с фактами. Она хочет, чтобы к ней хорошо относились. В каждом случае и для каждого человека у нее своя роль, но ей недостает последовательности; во многих отношениях она еще точно подросток, одаренный богатым воображением. Она так же верит тому, что говорит; и недоверие возмущает ее, очень возмущает. Я же теперь не верю ни единому ее слову, пока не найду солидных подтверждений. Она лжет, а еще невольно себе потакает. Я понял это лишь в последние год-два. Она может выпить невесть сколько водки, бренди и шампанского, и на ней это никак не скажется. На днях мы обедали у Мелчетов, и лорд Моттистон, заметив, что ее бокал снова и снова наполняется, заявил, что не может уступить первенство женщине, и стал, как и она, осушать бокал за бокалом – в конце концов он превратился в болтливого зануду с хриплым голосом, тогда как Мура своим обычным голосом как ни в чем не бывало беседовала с дамами. Сколько бы она ни выпила, ее манеры, осанка, цвет лица остаются неизменными, и, только присмотревшись к ней и поразмыслив, я понял, что алкоголь делает ее чуть менее самокритичной и дает ей видимость уверенности в себе. Алкоголь просто слегка расковывает ее. Освобождает от застенчивости и последовательности и больше ни в чем себя не обнаруживает. У нее появляется ощущение, что с ней все обстоит нормально и не о чем беспокоиться. И она не беспокоится.
Ум у нее не выдающийся и не оригинальный, но очень живой, широкий и проницательно острый. Гибкий ум, не стальной. Она мыслит чисто по-русски – пространно, извилисто и с той философической претенциозностью, что присуща речи русских, которые всегда идут к заранее известному им заключению окольными путями. Я говорю, что она мыслит чисто по-русски, потому что, как я подозреваю, в самой структуре русского языка и в традиции русской литературы есть известная вялость, которая и сообщается тем, кто изъясняется по-русски. Мура – личность развитая, у которой мышление не научное, а литературно-критическое. В русском характере, кажется, весьма существенную роль играет детский романтизм и намеренное, высоко ценимое своеволие. Естественно, что Мура не приемлет рассказы Чехова о России и «Тщету» Джерарди, ведь первые – критика ее склада ума, а последний – карикатура на него. У Одетты было куда больше ясности в мыслях и проницательности, правда, в пределах латинского воспитания. У Джейн, Эмбер и моей невестки Марджори ум куда упорядоченней, и любое их утверждение и толкование куда осознанней, чем у Муры. В образовании Джейн, Эмбер, Марджори и моей дочери определенное место занимала наука, и они мыслят на английский манер. Необходимость управлять собой у них в крови. У Муры этого и в помине нет. Такого порывистого существа я в жизни не видел. Однако ей присуща и удивительная мудрость. Она может вдруг пролить свет на какой-нибудь вопрос, точно солнечный луч, прорвавшийся сквозь облака в сырой февральский день. И если она подвластна порывам, порывы ее прекрасны и благородны.
В Петербурге в 1920 году она изо всех сил старалась мне объяснить, что происходит в России, и высказать свою точку зрения на происходящее; с величайшей готовностью она однажды пришла мне на помощь – посоветовала, как себя вести, чтобы не попасть в ложное положение. В ту пору у большевиков было принято приглашать любого знаменитого гостя на заседание Ленинградского Совета. Во время заседания кто-нибудь вдруг объявлял о его присутствии, превозносил его и просил выступить. В таких обстоятельствах трудно было, в свою очередь, воздержаться от похвал и не выразить надежду на успехи во всех делах. Выступление тотчас переводили, превращая его в безответственный панегирик марксистскому коммунизму, публиковали в «Правде» и где-нибудь еще и по телеграфу передавали в Европу, куда выступавший затем приезжал в тщетной погоне за отправленным материалом. Мура посоветовала мне заранее написать мою речь и, когда меня попросят выступить, прочесть ее, она же загодя переведет ее на русский язык. Я последовал совету, а когда встал Зорин, чтобы пересказать ее, превратив в обычное прославление нового режима, я протянул ему Мурин перевод: «Вот то, что я говорил, прочтите». Он был застигнут врасплох, и ему ничего не оставалось, как прочесть. Таким образом благодаря Муре мне не приклеили ярлык красного перебежчика, и для женщины, уже находящейся под подозрением, это, по-моему, был мужественный поступок.
Когда я уезжал из Петербурга, она пришла на вокзал к поезду, и мы сказали друг другу: «Дай тебе Бог здоровья» и «Я никогда тебя не забуду». В душе и у нее и у меня осталась, так сказать, половинка той самой разломленной надвое монетки. Как множество подобных половинок, они не всегда давали о себе знать и, однако, всегда существовали.
Я уже говорил, что мы писали друг другу лишь изредка. В те дни письма в России пропадали, и было неразумно поверять бумаге даже свои личные секреты. Мы не виделись восемь лет или больше, и вдруг при встрече в фойе Рейхстага на нас нахлынули и загорелись ярким светом воспоминания о шепоте во тьме и жадных, ищущих касаниях рук.
«Ты?!»
Я не пытался немедленно соединиться с Мурой не только из-за моих уз и привычек. Я думаю, с самого начала у меня было очень ясное ощущение, что есть много такого, чего мне лучше не знать. Я не хотел слышать историю ее жизни, не хотел знать, какие неведомые мне воспоминания о прошлом или нити чувств переплелись у нее в мозгу. Позади был бурный роман с Локкартом, а я считал и считаю, что Локкарт – презренный прохвостишко. Она вышла замуж за Будберга в Эстонии, когда уехала из России уже после того, как мы были любовниками, и я не желал знать подробности этого замужества. Она развелась с мужем – это был так называемый немецкий развод: Будберг – отчаянный игрок – оказался замешан в каком-то темном деле и сбежал в Бразилию, но иногда он все еще писал ей. Я думал, и так думает большинство людей, которые ее знают, что, когда она жила в Сорренто у Горького в роли его домоправительницы и секретаря, она была его любовницей. Мне известна безрадостная, замысловатая суетность и сложность горьковского ума, и я не представляю, чтобы он мог оставить ее в покое, но Мура всегда утверждала, что сексуальных отношений между ними не было. Однако у него на письменном столе лежал слепок ее руки. Он невероятно расхваливал ее. Она с ним переписывалась – об этом я еще расскажу. Горький доверял ей и полагался на нее – до такой степени, что, когда умирал, захотел, чтобы она была рядом.
По ее словам, у нее было всего шесть любовников и она никогда не принадлежала никому, кроме них, – Энгельгардт, Бенкендорф, Локкарт, Будберг, один итальянец в Сорренто и я. Она не такая шалая, похотливая особа, как Одетта; она не проявляет сексуальной активности, напротив, ей нравится, когда активен мужчина, и она охотно ему отвечает. Она говорила мне, что находит неестественной и нестерпимой самую мысль о возможности отдаться кому-то без любви. Ей вовсе не обязательно было мне это сообщать – а она сказала как-то в 1933 году, – но тогда я просто жаждал ей поверить. Верю этому и сейчас. Однако вначале я вовсе не был в этом убежден. Я судил по себе. Я думал, у нее было такое же множество партнеров, как у меня женщин, и все эти отношения могли с таким же успехом продолжаться. В ту пору я не донимал ее вопросами. Она держалась непринужденно и дружелюбно со всеми, и у меня не было оснований предполагать, что она физически так уж разборчива. Однако ей была свойственна эмоциональная разборчивость и целостность чувств. Она, несомненно, никогда не отдавалась из корысти, но все в ней говорило, что она свободна в проявлении чувств и податлива. <...>
Все эти годы, пока я мешкал, мое умышленно легкомысленное отношение к Муре постепенно менялось, и в конце концов моя любовь целиком сосредоточилась на ней. Мы становились все ближе друг другу, и она делалась мне все необходимей. К концу 1932 года я готов был сделать все и на все посмотреть сквозь пальцы, лишь бы Мура целиком принадлежала мне. <....>
<...> В августе 1935-го, спустя какое-то время после окончательного разрыва c Марией Игнатьевной, Уэллс напишет:
«Природа не позаботилась о каком-нибудь утешении для своих созданий ≈ после того, как они послужили ее неясным целям. Нет в жизни человека последнего этапа, отмеченного истинным счастьем. Если мы в нем нуждаемся, мы должны сотворить его сами. Я все еще готов лелеять эту иллюзорную надежду. Я вовсе не похоронил свои надежды у ног Муры. Но вряд ли для меня теперь найдется какая-нибудь другая женщина. Дружба, быть может, еще и улыбнется мне, и мимолетная бодрящая близость, но завладеть кем-нибудь нечего и мечтать. Я вышел из игры. Слишком я любил Муру и не могу опять взяться за создание нового полнокровного союза. По крайней мере так я чувствую сейчас».

Уэллс, Горький и их переводчица Мария Игнатьевна Бенкендорф, впоследствии баронесса Будберг, в Петрограде (1920 г.).
Фото предоставлены издательством «Ладомир» |