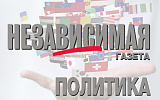Джорджа Баланчина я называл Георгием Мелитоновичем даже когда мы говорили по-английски, и это ему очень нравилось. Окружающим он объяснял: "Мы с ним грузины. Посмотрите на наши носы с горбинкой!"
Отец Баланчина - Мелитон Баланчивадзе был известным грузинским композитором, "грузинским Глинкой" - его опера "Коварная Тамара" заложила основу оперного искусства в Грузии. Был композитором и младший брат Баланчина Андрей, народный артист Советского Союза. Джордж Баланчин унаследовал от отца мужскую красоту, любовь к музыке и эпикурейский характер. Он был прекрасным тамадой, знал толк в вине и мог дать фору любому первоклассному шеф-повару Тбилиси или Нью-Йорка. "Любовь к прекрасному и ощущение прекрасного в любви у меня от отца, - говорил мне Баланчин. - А что может быть прекраснее женщин и музыки и соединяющего их танца!"
Полушутливо-полусерьезно он рассказывал, что ощутил всю силу женской красоты еще в далеком детстве, когда его, четырехлетнего мальчика, повели к зубному врачу. Врач - женщина - оказалась очаровательной блондинкой. Она пленила воображение маленького Георгия, несмотря на невыносимую боль, которую ему доставляла. "Любовь и страдания - сиамские близнецы. Любовь познается через страдания", - этим моралите завершал Баланчин свой рассказ об очаровательной дантистке.
Как мы познакомились
Познакомился я с Джорджем Баланчиным в 1962 году, во время первых гастролей возглавляемого им "Нью-Йорк сити балле" в Советский Союз. Было это в Москве. Затем мы встретились с ним в Тбилиси на квартире его брата Андрея, с которым мы жили на одной улице. Братья не виделись с 20-х годов, и, естественно, их встреча была теплая и трогательная. Но когда после тостов и возлияний Андрей стал потчевать брата своей музыкой - а длилось это около двух часов - произошел конфуз. Баланчин подпер голову руками и не произнес ни единого слова похвалы. "Я просто не мог", - признался он сопровождавшей его госпоже Молостоф, а мне сказал: "Андрей хочет, чтобы я поставил балет на его музыку. Но это выше моих сил".
В жизни он был удивительно мягким, добрым, деликатным. Он даже любил называть себя, цитируя Маяковского, "облаком в штанах". Но, когда дело касалось искусства, его ремесла, Баланчин становился жестким и мог тяжело ранить даже самых дорогих ему людей. Его бескомпромиссность в искусстве была беспредельной...
В тот его приезд в Грузию я был одним из немногих, кто совершил с ним поездку из Тбилиси в Кутаиси, куда он ездил, чтобы поклониться своему отцу Мелитону Баланчивадзе. Он вспомнил об этом, когда я возобновил с ним знакомство в конце 60-х годов в Нью-Йорке, где я работал в качестве собственного корреспондента "Известей".
Я был балетоманом со стажем, и вполне понятно, что я дневал и ночевал в "Нью-Йорк сити балле", как когда-то в Большом. Я ходил на все балеты Баланчина, на его репетиции, но самому "мастеру", как его величал Стравинский, не докучал.
Наше сближение произошло по инициативе Баланчина и вот по какому поводу. После десятилетнего перерыва "Нью-Йорк сити балле" стал готовиться к новым гастролям в Советский Союз, и Баланчин обратился ко мне с предложением провести несколько бесед с балетной труппой. Он просил меня рассказать как о международном положении Советского Союза и советско-американских отношениях, так и о том, как вести себя в России, какими сувенирами запастись, какие бытовые предметы взять с собой - короче, о прозе жизни. Беседы проходили в мастер-классе Баланчина, и он строго следил за тем, чтобы их посещала вся труппа - не только кордебалет, но и солисты. Сам он сидел в первом ряду с открытым блокнотом на коленях, в котором все время делал какие-то пометки. Сначала мне было как-то смешно и неловко читать максимально упрощенные лекции этим молодым и красивым мужчинам и женщинам, где вперемешку с начинающими сидели звезды балета, но затем привык и освоился.
Баланчин относился к этим беседам, как к своим репетициям, а репетиции он вел одновременно демократично и диктаторски. Демократизм заключался в том, что звезды и кордебалет репетировали вместе. Диктаторство - в том, что дисциплина была строжайшая, как прусская военная муштра. Кстати, именно этим симбиозом демократизма и диктатуры объяснялось высокое мастерство баланчинского кордебалета. "Наполеон говорил, что каждый солдат должен носить в своем ранце жезл маршала. Я беру в кордебалет таких танцовщиков и танцовщиц, у которых в туфлях подстилка солистов", - заметил как-то Баланчин.
Не раз, когда заболевали звезды, их заменял кто-нибудь из кордебалета. Занятия в мастер-классе вместе с солистами делали такие замены возможными и сравнительно безболезненными. Впрочем, некоторые звезды, главным образом приглашенные, предпочитали репетировать с другими балетмейстерами, опасаясь нивелировки своей индивидуальности. Среди них был и Михаил Барышников.
Когда я сблизился с Баланчиным в 1969 году, он получил "мексиканский развод" от балерины Танаквиль ле Клерк, на которой был женат в течение шестнадцати лет. После развода он перебрался на небольшую квартиру. Жил в ней один. Ничего в этой квартире не напоминало о балете. Здесь не было даже рояля! Квартира была его берлогой. Он говорил: "Бывают времена, когда хочется побыть одному, не думать ни о ком и ни о чем. Я прихожу домой поздно ночью и срываю с себя всю одежду. Мы, танцоры, нуждаемся, в том, чтобы наше бедное тело отдыхало".
Когда у него не было гостей, Баланчин обычно читал или смотрел телевизор. Больше всего он любил смотреть вестерны, причем старые, "простые, без психологизма и прочей современной ерунды". Любимым чтением Баланчина были научно-популярные книги и Библия. Он читал ее беспрестанно и не только потому, что был глубоко верующим христианином. "Библия помимо всего прочего первоклассное развлечение", - говорил он.
Маршруты, да и вся жизнь Баланчина после переезда "Нью-Йорк сити балле" в Линкольн-центр, сузились до пятачка: театр - школа - квартира и несколько близлежащих злачных мест. Главными из них были ресторан "О'Нил" (по имени знаменитого американского драматурга), который находился в здании отеля "Эмпайр-Редиссон" через улицу от Линкольн-центра, кафе в том же здании и ресторан "Джинджер мэн" ("Рыжеволосый мужчина") на Бродвее, обтекавшем отель с другой стороны. Там-то мы и встречались с Баланчиным и говорили "за жизнь". На репетициях и в балетной школе я только молчал и слушал.
Я очень любил ходить с ним по его коротким маршрутам. Его то и дело окликали и приветствовали - ученики знаменитой музыкальной школы "Жиллиард", актеры, танцоры, музыканты, родители "юных дарований", приехавшие забирать домой своих чад, - короче, все население Линкольн-центра. И всем им - маленьким девочкам, еле тащившим свои скрипки или балетную амуницию, их солидным родителям, пожилым билетершам, великим музыкантам - Георгий Мелитонович кланялся одинаково вежливо, учтиво и элегантно.
Он был элегантен по всей своей человеческой и творческой сути. И в малом, и в большом. И в том, как он шел по улице, и в том, как он показывал рисунок танца своим питомцам. Он был изящен и элегантен и в строгом смокинге, и в бесформенных брюках-"мешках", в которых любил репетировать. Он был элегантен и чертовски красив даже в самые преклонные годы своей жизни. Он словно был ходячей иллюстрацией знаменитых чеховских слов о том, что в человеке все должно быть красиво. И он сам боготворил красоту.
"Скаковые лошади дневников не ведут"
В отличие от подавляющего большинства своих собратьев по ремеслу Баланчин сочинял балеты, импровизируя, не имея никаких планов, никаких заготовок, ничего, кроме музыки. Цитируя любимого им Наполеона, он ввязывался в сочинение танца со словами: "А там посмотрим". Как-то я заметил, что эту наполеоновскую фразу любил и Ленин. В глазах Баланчина мелькнула его знаменитая лукавинка: "Вот почему я покинул Россию после смерти Ленина". И увидев мое вытянутое от удивления лицо, добавил: "После смерти Ленина в России стало скучно".
Баланчин ненавидел интеллектуализацию танца: "Я не из тех, кто создает балеты в тиши своих квартир. Мне нужны тела танцоров, я должен знать пределы их физических возможностей, пределы их подражательных способностей. Моя фантазия зависит от того, как они прыгают, вертятся, растягиваются. Вот почему я предпочитаю тех танцоров, которые пришли ко мне из школы-студии, где они учились у меня". Советские критики упрекали Баланчина за абстрактность его балетов, подразумевая под этим их бессюжетность. Но именно абстрактность он ненавидел не меньше интеллектуализации в танце. Хорошо знавший его поэт Оден говорил: "Баланчин - одна из самых интеллектуальных личностей, с которыми я когда-либо встречался. Идеи приходят к нему в виде образов, а не абстракций. Он не интеллектуал, он глубже, он из тех, кто понимает все".
Баланчин не оставил после себя никакого теоретического наследия, никакой "Моей системы", никакой "Моей жизни в искусстве". Одному своему биографу, пришедшему в отчаяние от предельной скудости источников, он сказал: "Когда вы будете писать обо мне, представьте, что пишете о скаковой лошади. А скаковые лошади, пардон, дневников не ведут".
Много лет спустя, когда здоровье Баланчина сильно пошатнулось, окружавшие его люди стали настаивать на том, чтобы он зафиксировал на бумаге свои балеты и назвал своего преемника в "Нью-Йорк сити балле". "Подумайте о будущем", - говорили ему. Разговоры о будущем раздражали Баланчина, впрочем, как и о прошлом. Он считал, что существует лишь одно время - настоящее, и призывал наслаждаться им. "После меня хоть потоп?" - подзадоривал я его. "Это много лучше, чем памятник, обрамленный пошлыми фигурками танцующих балерин", - отвечал он.
Его отношение ко времени, как мне кажется, определялось стихией его творчества, стихией танца. В отличие от литературы, живописи, музыки - танец живет только тогда, когда его исполняют. "Когда меня не будет, моих танцоров будут учить другие мастера. Потом уйдут и мои танцоры. Придет иное племя. Все они будут клясться моим именем и ставить и танцевать "балеты Баланчина", но они уже не будут моими", - говорил он, но без всякой печали или сожаления в голосе. "Есть вещи, которые умирают вместе с тобой, с этим ничего не поделаешь. Но и ничего трагического в этом нет".
Когда Баланчин находился в веселом расположении духа, он прекращал философствования "о времени и о себе" шуткой: "И вообще все это меня не касается. Мы, грузины, долгожители. Некоторые из нас живут до полутораста лет, не так ли, Мэлор Георгиевич?" Я охотно соглашался с ним...
Ни один хореограф не поставил столько балетов, сколько Баланчин. Ставил он балеты, точнее - сочинял их, исключительно быстро. Иногда он сочинял два-три балета одновременно. С разными танцорами, а то и с одними и теми же. Бывало, сочинение одного балета прерывалось буквально на полужесте, и он "перепрыгивал" на другой. Творческая жадность - единственный вид жадности, которой он был подвержен.
Баланчин был каторжным тружеником в искусстве. "Сначала выступает пот, много пота, - любил говорить он. - А затем приходит красота. Да и то лишь, если тебе повезло и Бог услышал твои молитвы".
Пот и красота... Я всегда вспоминал эти слова Баланчина, когда стоял рядом с ним за кулисами во время представления его балетов на сцене "Нью-Йорк сити балле". Балет мог идти сотый раз, а Баланчин всегда стоял за кулисами, как в день премьеры. Он напоминал мне военачальника, руководившего сражением. Он отдавал краткие, отрывистые приказы; жестом руки бросал в бой, то есть на сцену, кордебалет и солистов. Он ободрял вбегавших за кулисы, тяжело дышавших танцоров словом и жестом, заботливо поправляя их туалет, хлопал по плечу. Глаза всех вбегавших обычно устремлялись на него - с мольбой, с надеждой, с жаждой похвалы и страхом осуждения.
После спектакля они отрывали Баланчина от занавеса, за который он держался согласно древней театральной традиции, и тащили на авансцену. Он упирался согласно традиции и согласно традиции повиновался. Он раскланивался перед оравшей от восторга публикой изящно и непринужденно.
Поклонник французской кухни
Великий хореограф, фанатик танца. Но это еще не весь Баланчин. Ничто человеческое не было ему чуждо. Еще до развода с ле Клерк он без ума влюбился в молодую тогда еще балерину Сюзан Фаррел. Ей было шестнадцать лет. Любовь его граничила с одержимостью. Несмотря на огромную разницу в летах, Баланчин собирался жениться на ней. Но Сюзан предпочла мастеру ученика. Она вышла замуж за Пола Меджа и ушла из "Нью-Йорк сити балле", справедливо опасаясь, что Баланчин будет "затирать" ее мужа.
Измена Сюзан потрясла Баланчина. Ради нее он вернулся на сцену как танцор, сыграв роль Дон Кихота. Но его Дульсинея и на сцене ушла к Базилио. Именно в дни ухода Фаррел я встретил Георгия Мелитоновича, как обычно, в районе Линкольн-центра. Он шел, отчаянно флиртуя, с какой-то молодой красивой женщиной. Мы остановились, поздоровались. Баланчин представил мне свою даму. На какую-то долю мгновения мне показалось, что он смущен. Когда мы прощались, Баланчин сказал мне по-русски: "Жизнь продолжается, Мэлор Георгиевич!"
Да, он был большим человеком и - сибаритом и гурманом. Однажды он сказал мне: "Хватит ходить по ресторанам и кафе. Давайте я угощу вас моим обедом у меня дома". Но пригласил меня Баланчин на обед с самого утра! Мы с ним совершили большое путешествие по продовольственным магазинам и рынкам Манхэттена. В одном месте он купил мясо, в другом - зелень, в третьем - фрукты, в четвертом - еще какие-то ингредиенты предстоящей трапезы. Чувствовалось, что он шел по давно проложенным маршрутам. Продавцы его хорошо знали и приветствовали с большим почтением. Отбирал он продукты с такой же придирчивостью, как танцевальные па. Кстати, путешествовали мы по Манхэттену не в машине, не в такси, а на метро. Подземка была единственным средством передвижения, которое признавал Баланчин в Нью-Йорке. Я никогда не видел его за рулем и даже не знаю до сих пор, был ли у него свой автомобиль.
Нагруженные продуктами, мы пришли к нему на квартиру, он стал кудесничать на кухне. Для меня Баланчин приготовил свой фирменный французский обед. Вообще он ставил выше всего французскую кухню и французские вина, в которых разбирался как профессиональный дегустатор.
Профессионализм у Баланчина брал верх над патриотизмом. Французскую кухню он ставил выше русской и грузинской. Русскую я ему прощал, а вот вокруг грузинской у нас развертывались целые баталии. Как-то я принес ему бутылку "Хванчкары", которую мне прислали из Тбилиси. Он попробовал и решительно произнес: "Такое вино можно подавать только в доме терпимости". И, видимо, сжалившись, добавил: "Высокого класса".
Я тщетно пытался протестовать. Тогда Баланчин подвел меня к своему небольшому, но тщательно отобранному погребку французских вин и предложил любое для сравнения с
"Хванчкарой". Я не принял вызова, ибо знал, что он прав. А любимым напитком Баланчина было шампанское "Roederer Cristal". "Несмотря на то, что его любил и наш последний царь", - шутил он.
"Я поступил бы, как отец"
Смерть отца Баланчина была страшной и символической. У него развилась гангрена ноги. Врачи сказали композитору, что без ампутации его ждет неминуемая смерть. Старик отказался: "Чтобы я, Мелитон Баланчивадзе, ковылял на одной ноге? Никогда!" Врачи и родные продолжали настаивать, но тщетно. "Смерть мне не страшна, - говорил он, пожимая плечами. - Смерть это прекрасная девушка, которая придет и заключит меня в свои объятия. Я с нетерпением жду этого". Через два дня Мелитон Баланчивадзе скончался.
Историю смерти отца Джордж Баланчин узнал от брата, когда приехал в Грузию в 1962 году. Она произвела на него сильное впечатление, потрясла его. "Я поступил бы, как отец", - говорил он мне.
Это не было ни рисовкой, ни аффектацией. Баланчин жил театром сначала как актер, затем как хореограф. Я уже упоминал мельком, как он сочинял балеты. Он пропускал их через себя не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Он танцевал все партии своего нового балета - и мужские, и женские не "в общих чертах", а почти идентично. Это было захватывающее зрелище. Возраст был не властен над ним.
Баланчин умирал долго и тяжело. Он лежал в нью-йоркском госпитале имени Рузвельта неподалеку от Линкольн-центра и созданного им "Нью-Йорк сити балле", принесшего Америке классический балет, а миру - его возрождение. (Когда Баланчину говорили, что он создает романтические балеты, он неизменно отвечал: "Я классик. Романтические балеты ищите в Москве".) Он танцевал до последнего вздоха. Танцевал, даже прикованный к больничной койке. Одна из его учениц, прима-балерина Мария Толчиф, вспоминает о своем посещении умиравшего мастера: "Когда я вошла к нему, он шевелил пальцами. Взглянув на меня, он сказал: "Я сочиняю па". А вот свидетельство другого солиста "Нью-Йорк сити балле" Джозефа Дюеля. Заглянув между репетициями в палату Баланчина, он застал его в глубоком забытьи. Баланчин не реагировал на слова своего ученика. Тогда Дюель, оставив общие слова, заговорил о важности пятой позиции в танце. И вдруг Баланчин стал с жадностью говорить о значении пятой позиции "в анатомии классического танца".
Карен фон Арольдинген, последняя любовь Баланчина, тоже вспоминала, как они с Жаком д'Амбозом навестили его в госпитале. Баланчин лежал молча, без движения, не подавая никаких признаков жизни. Затем неожиданно открыл газа, посмотрел на Карен и сказал:
- Я сочиняю для вас балет на "Хорал" Вивальди. Я думаю об этом. Вы будете его танцевать?
- Конечно, - ответил д'Амбоз.
- Нет, я имею в виду сейчас.
И Карен с Жаком стали танцевать в маленькой госпитальной палате...
Джордж Баланчин, Георгий Мелитонович Баланчивадзе, умер 30 апреля 1983 года. Но шоу должно было продолжаться. "Нью-Йорк сити балле" не отменил назначенный на тот вечер спектакль. Вот только перед открытием занавеса на авансцену вышел Линкольн Керстайн, когда-то привезший Баланчина в Америку, чтобы тот научил Новый Свет классическому танцу, и сообщил, что Баланчин "уже не с нами. Он с Моцартом, Чайковским и Стравинским"...
Отпевали Баланчина в небольшой церкви Пресвятой девы Марии на стыке Парк-авеню и 92-й стрит, где он обычно молился. Церковь не могла вместить всех пришедших проститься с ним. И тем не менее мимо его гроба прошли несколько поколений танцоров - от тех, с кем он танцевал еще перед царем и большевиками, до тех, кто только-только начинал становиться на пуанты.
Он оставил после себя мало денег и много балетов. Как-то Баланчин сказал мне: "Я мог стать мультимиллионером, как Джером Роббинс (выдающийся американский хореограф. - М.С.), если бы остался на Бродвее или переехал в Голливуд. Ты знаешь, у Джерома даже есть акции какой-то не то канализационной, не то ассенизационной компании. Акции, как деньги, не пахнут!"
Не веря в будущее и уповая на свое грузинское долголетие, Баланчин не оставил никакого распоряжения - ни устного, ни письменного по поводу того, где он хотел бы быть похоронен. Пока он умирал в нью-йоркском госпитале имени Рузвельта, другие судили и рядили о том, где предать земле прах мастера. Одни предлагали Венецию, где нашли свое пристанище Стравинский и Дягилев. Но Баланчин не благоволил городу, увидев который можно умереть. Называли Париж, Лондон, Монте-Карло, реже Ленинград и - совсем робко - Кутаиси, где покоился прах его отца. Но в конце концов Баланчина похоронили на маленьком старинном кладбище в Сэт Харборе, штат Род-Айленд. Он стал посещать этот городок на склоне жизни и находил его "очаровательным".
Миннеаполис, США