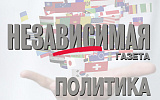Надежда в российском смысле слова – это упование на то, что все как-нибудь утрясется. Коллаж Михаила Митина
Надежда в российском смысле слова – это упование на то, что все как-нибудь утрясется. Коллаж Михаила Митина
Во время прошедшей на прошлой неделе «Прямой линии» с президентом РФ житель Дагестана Абдурахман Хавчаев спросил Владимира Путина, что его сподвигло на указ о создании нацгвардии и будут ли у новой структуры права, которых не было у внутренних войск. Ответ Владимира Путина многих удивил: первая и основная задача образованного ведомства, по его словам, состоит в необходимости «поставить под особый контроль оборот оружия в стране». Президент выразил надежду на повышение эффективности этой работы и, кроме того, пояснил, что за счет оптимизации структур, прежде всего управленческого и штабного назначения, будут снижены затраты на содержание служб. Насколько актуальной и необходимой в разгар экономического кризиса видится россиянам очередная реформа силовых ведомств и считают ли они уровень национальной и личной безопасности в России достаточным сегодня? Руководитель отдела социально-политических исследований Левада-Центра Наталия ЗОРКАЯ объяснила ответственному редактору «НГ-политики» Розе ЦВЕТКОВОЙ данные социологических опросов по этой теме.
– Наталия Андреевна, как восприняли люди создание новой силовой структуры, ориентированной прежде всего, как нам всем объяснили буквально сразу же после подписания президентского указа о нацгвардии, на борьбу с внутренними угрозами?
– Данных об отношении россиян к созданию такой мощной силовой структуры, находящейся в прямом подчинении у президента, у нас пока нет. Но усилиями федеральных телеканалов со времен присоединения Крыма, войны на Донбассе, а затем – военной операции России в Сирии, в общественном мнении значительно преобладают коллективные страхи и тревоги прежде всего по поводу внешних угроз не только «идеологических», но и военных и террористических. Официальная подача смысла и цели сирийской операции как прежде всего защиты от проникновения терроризма в страну также сработала. За все время наблюдений в нулевые годы никогда мы не получали такого высокого уровня общественного согласия относительно якобы существующей внешней военной угрозы, с одной стороны, с другой – таких высоких оценок боеспособности российской армии, роли в обществе силовых структур и эффективности спецслужб в предотвращении возможных террористических атак: в начале 2016 года 65% россиян считали, что «сейчас существует военная угроза России со стороны других стран», в 2015–2016 годах 81% опрошенных считают, что сейчас российская армия способна «защитить Россию в случае реальной военной угрозы», а 59% – что российские спецслужбы и МВД смогут «защитить население от новых террористических актов» (при этом в начале 2000-х так считало чуть более трети россиян, см. график).
Нагнетание федеральными СМИ и официальным дискурсом картины враждебного по отношению к «возрождающейся» российской державе внешнего мира – прежде всего США, Запада – постоянно сопровождалось борьбой с «внутренними угрозами», будь то общая угроза терроризма или экстремизма или деятельность несистемной оппозиции, гражданских активистов, граждански активных НКО, которые порочатся в глазах общественного мнения как проводники интересов внешних врагов (иностранные агенты), «пятая колонна» и т.п., расшатывающих пресловутую лодку «стабильности».
Надо подчеркнуть, что череда законов, принятых после периода «либерализации» при президентстве Медведева, направленных – открыто или потенциально – на подавление гражданской и общественной активности, воспринималась общественным мнением двояко: с одной стороны, они встречали массовую поддержку, с другой – в нем присутствовало и понимание того, что законы эти направлены на подавление любой гражданской активности, любых несогласных, на любую открытую критику политики и действий властей. В ситуации активных протестов 2011–2012 годов относительное большинство наших сограждан (около 40%) было на стороне протестующих, требующих политических и общественных перемен. Но с усилением давления на несогласных, их преследования с помощью политического использования новых законов, возможного в отсутствие независимого суда, массовое сознание все больше приспосабливается к такой «новой» картине мира, демонстрируя огромную лояльность по отношению к внутренней и внешней политике властей. В этой новой картине мира роль силовых структур и военных оказывается чрезвычайно велика (см. таблицу № 1), так что массовое сознание не только достаточно адекватно оценивает расстановку сил, но и принимает сложившееся положение вещей. Так что можно ожидать, что само создание Росгвардии будет воспринято сегодня положительно, поскольку массовое сознание все еще пребывает во взбудораженном, воинственном состоянии, охватившем его наряду с всплеском державного патриотизма начиная с крымских событий.
Но если вернуться к вопросу о том, какое место укрепление силовых структур занимает среди наиболее важных для населения проблем и их ожиданий от власти и правительства, мы увидим, что они отодвигаются на самый задний план, когда речь заходит о реальной повседневной жизни людей и страны в целом. В прошлом году мы задавали вопрос: «На что в первую очередь должно выделять деньги правительство?» И хотя конкретного вопроса про силовые ведомства там не было, но перевооружение армии и ее модернизация – притом, что символическая роль армии оценивается населением высоко – этот пункт стоял на 7-8-м месте из 12, отмечал его примерно каждый 10-й опрошенный. Лидировали же претензии, связанные с падением уровня жизни, состоянием здравоохранения и образования, угроза безработицы и т.п. (см. табл. 1, 2).
В преддверии «Прямой линии» с президентом мы задали вопрос: «Что бы вы спросили у Владимира Путина при возможности?» И тут главными вопросами идут: кризис, безработица, рост цен, ЖКХ, разнообразные новые поборы, усиливающиеся с углублением экономического кризиса, состояние дорог, инфраструктура и т.п. – вот реально беспокоящие людей проблемы.
 |
|
|
– Никакими пропагандистскими ухищрениями эти тревоги и недовольства не рассосались?
– В моменты антизападной и прорусской накачки и мобилизации они были как бы отодвинуты на задний план в массовом сознании. Но хроническое недовольство реальным положением дел никуда не девалось, только форм и способов выражения этого недовольства – реально действующих профсоюзов, общественных организаций, движений, партий, отстаивающих интересы своих избирателей и артикулирующих их, внепарламентской оппозиции (нормального явления для развитых демократий) – не возникло. Отсюда – ощущение собственной беспомощности, зависимости, невозможности что-либо изменить и упование на власть. Для власти же срезы общественного мнения важны прежде всего тем, что позволяют отслеживать уровень лояльности к ней и возможные угрозы ее монополии, никакого влияния на принятие решений в наших условиях общественное мнение не имеет, это не тот институт, и он не может быть таковым в отсутствие публичной политики и свободного публичного пространства.
Вместе с тем ура-патриотический подъем 2014–2015 годов, похоже, начинает спадать. Тогда он был движим возродившимися советскими комплексами, оказавшимися чрезвычайно живучими, собственно, и скрепляющими это социальное целое: мы великие, особые, а вокруг враги, все желают нам зла, но мы им покажем кузькину мать, – и на тот момент людям было не так важно говорить о том, что происходит в стране, реальные проблемы были как бы вытеснены на периферию сознания. Хотя и в тот период на вопрос об отношении к российско-украинскому противостоянию, о вмешательстве России в события в Донбассе предложенный вариант ответа – что руководству страны стоит лучше направить усилия государства на решение внутренних проблем – выбирали около 30% опрошенных. Думаю, что подобные настроения, недовольство положением дел в стране будут усиливаться.
– Влияют ли подобные настроения на рейтинг отношения к правительству?
– Пока трудно и рано говорить, что наметился устойчивый негативный тренд, но некоторое падение и ослабление чрезвычайно накачанного в последние два года пропагандой уровня одобрения намечается – минус пять–семь пунктов, что уже выходит за рамки статистической погрешности.
Но и роль президента, и роль именно силовых ведомств, а не, скажем, парламента, правоохранительных органов, суда, не говоря уже о партиях и профсоюзах, оценивается сегодня как никогда высоко (см. табл. 3)
– За счет чего так возрос уровень доверия к силовикам?
– Это не столько уровень доверия, сколько оценки людей, хотя и уровень доверия к силовым и правоохранительным органам ощутимо возрос за 2014–2015 годы вместе с мощной волной «патриотической» мобилизации. При этом существенно то, что большинство людей по-прежнему считают, что их права не защищены и никакая полиция, никакой суд их в случае чего не спасет. То есть ощущение произвола правоохранителей, чиновников, невозможность защититься в суде никуда не уходит, скорее он будет усиливаться в будущем. Но пока упование на высшую власть и силовые структуры, на которые она опирается, доверие к армии остается очень высоким.
Три года назад массовые оценки по отношению прежде всего к правоохранительным органам, и особенно полиции, были весьма негативными, одно время доминировало представление о почти всеобщей коррумпированности этих органов и необходимости их чистки. Ведь эти оценки, отчасти основанные и на личном опыте, но в основном – на коллективных представлениях, не могли полностью испариться, тем более в отсутствие перемен, последовательных реформ. Они существуют подспудно. Но сегодня все страхи, тревоги, опасения и комплексы перекомпоновались прежде всего под воздействием федеральных СМИ и политической риторики высшего руководства страны в историю «всеобщей безопасности», а создание нацгвардии, подчиненной непосредственно президенту, находится в этом русле, на этом и держится сейчас во многом коллективное сознание. Внешние и внутренние угрозы – наши «скрепы».
– Выходит, и власть понимает, что недовольство происходящим в стране никуда не ушло? И поэтому создается ведомство, которое будет бороться с внутренними угрозами, вплоть до применения оружия против своих граждан в случае экстремальной необходимости?
– Власть, конечно, боится, поскольку у нее нет никакой идеи служения обществу и человеку, нет программы развития страны, картины будущего, которая была бы привлекательной для всего общества, имела бы в своем основании представление об общем благе. Политика – внешняя и внутренняя – направлена, по сути, на самоутверждение и самосохранение сложившегося политического порядка.
Но думаю, что страхи довольно велики и, возможно, переоцениваются, потому что на ближайшую перспективу возможность широких протестных движений, событий, подобных майдану, маловероятна, что не отменяет локальных протестных вспышек, акций, даже бунтов, которые как раз и могут успешно подавлять усиливающиеся силовые структуры, тем более – подчиненные непосредственно президенту.
Собственно, усиленная пропаганда, направленная на дисквалификацию оппозиции и укрепление внутри общества авторитета власти и силовиков, началась еще с 2004 года, с первого украинского майдана, сыгравшего большую роль в усилении страхов властей перед протестами и общественной активностьью. Тогда были созданы «Наши», шла усиленная дезинформация и дисквалификация украинских протестов, вбрасывалась идея купленности Западом или другими враждебными силами, соответственно – продажности оппозиции. И эта интерпретация украинских событий была принята большинством общества, в особенности молодежью, как показывали опросы молодых того периода. Но власть все равно боится. Думаю, что усиление локальных протестов, подобных протесту дальнобойщиков, вполне реально, как реально и более жесткое их подавление.
– Не получится ли, что чрезмерные страхи с обеих сторон только усугубят ситуацию?
– Режим будет закрываться, общество будет все более депрессивным и деморализованным. Мобилизационная волна после Крыма сопровождалась всплеском сильнейшей агрессии, направленной вовне, на воображаемых врагов. Но она уже была накоплена внутри самого общества и по мере спада этой мобилизации будет обращаться внутрь. А при таком низком уровне взаимного доверия, солидарности и негативном отношении к чужакам внутри агрессия будет, вероятно, только усиливаться, что чревато и всплесками насилия, жестокости, подобных, скажем, событиям в Кущевке.
– Чем дальше – тем больше пессимизма и меньше надежд?
– Надежда в российском смысле слова – это упование на то, что все как-нибудь утрясется, наладится, кто-нибудь наверху что-нибудь сделает, поправит. В социальном смысле – это отказ от действия и ответственности. И высокие цифры поддержки самой высшей власти говорят о том, что общество отказывается от того, что могло бы делать.












.jpg)