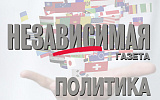В загородном доме у Виталия Алексеевича есть целая стена с наградами всех стран и народов, включая и советские.
В загородном доме у Виталия Алексеевича есть целая стена с наградами всех стран и народов, включая и советские.
Фото Розы Цветковой
В перестройку имя Коротича было знакомо каждому. А Егор Лигачев позже признавался, что назначение Виталия Коротича главредом «Огонька» было главной кадровой ошибкой ЦК КПСС. О том, как приходилось изворачиваться, чтобы сделать качественный журнал, об идеологических реалиях того времени Виталий Алексеевич рассказал ответственному редактору «НГ-политики» Розе Цветковой.
– Виталий Алексеевич, многие в России уверены: вы до сих пор живете в Америке, куда уехали, кажется, в 1991 году.
– Именно так. Знаете, по возвращении в Россию уже достаточное количество лет назад я купил трехтомную краткую советскую энциклопедию. В ней написано, что я уехал в США в 1991 году и до сих пор там живу. Потому, вероятно, все так и считают. А с другой стороны, я совершенно четко понял, что у меня здесь никакой организации, с которой я хотел бы себя ассоциировать. Ну не с ЕР же! Долгое время я сидел и ждал, читал газеты, чаще всего «Независимую». Вдруг ко мне приехала из Киева делегация молодых и интересных ребят. Они начинали в шоу-бизнесе, по образованию архитекторы, которые заработали деньги и сказали: «Мы хотим сделать газету, мы хотим писать, помогите!» И я поехал к ним, но не насовсем, а так, наездами. Все-таки Киев – мой родной город. Наезжая, я действительно помог сделать газету, которая забавно называется «Бульвар Гордона». И в ней мы начали каталогизировать интервью с самыми заметными людьми Советского Союза. Это время до сих пор будоражит воображение людей, и тех, кто жил тогда, и тех, молодых, которые понятия об этом времени, трудном, противоречивом, но интересном, не имеют.
– Как вы с Михаилом Сергеевичем познакомились? Ведь это именно по его протекции вы стали главным редактором «Огонька».
– Получилось забавно. Я редактировал в Киеве журнал. У меня уже была Государственная премия СССР, Государственная премия Украины, была международная репутация, то есть как поэт я был известен на Западе. И вдруг случился взрыв на Чернобыльской АЭС. До этого, в феврале 1986 года, первый секретарь в Украине Владимир Васильевич Щербицкий вызвал нескольких писателей украинских, чтобы решить, кто будет первым секретарем Союза писателей Украины. Смотрит на меня так пристально и говорит: «А ты уже в Москву собрался? Мне Горбачев говорит, отдай Коротича». Разговоры уже шли, я об этом ничего не знаю. Так и сказал, что понятия об этом не имею. Естественно, никто мне не поверил, и я сразу обрел репутацию предателя.
А потом бабахнул Чернобыль. Ко мне пришел корреспондент «Комсомольской правды», я даже сейчас помню, его звали Петя Полуживец. Пришел взять у меня интервью, и меня понесло. Дело в том, что я был тогда редактором журнала «Всесвит», это что-то вроде «Иностранной литературы», мы в нем печатали то, что на русском языке не выходило. Журнал был достаточно популярным, а тут у нас забрали все, мы не могли ни о чем говорить, тем более писать. Это ужас, какое было время! Даже у рентгенологов забрали радиометры, никому ничего нельзя было знать. И я взял и этому корреспонденту рассказал, что знал. Про то, например, что когда это случилось, директор АЭС перерезал телефонный кабель из Чернобыля в Киев, чтобы можно было навести порядок и никакая информация не проскочила. Про многое другое.
Через несколько дней мне звонит Александр Яковлев. Чтобы мне секретарь ЦК КПСС звонил в Киев домой?! Позвонил и спрашивает: «Вы не будете возражать, я тут прочел ваше интервью для «Комсомольской правды» (естественно, оно нигде не было напечатано), вы не будете возражать, если я дам его почитать Михаилу Сергеевичу?»
Через некоторое время после этого звонка меня вызывают в ЦК партии в Киеве и говорят: «Вас вызывают в Москву». Я приехал, позвали все к тому же Яковлеву. Позже я узнал, что руководство «Огоньком» предлагали Роберту Рождественскому и Генриху Боровику. А и тот и другой почему-то назвали меня. Но я не хотел, у меня был хороший журнал, я жил вполне благополучно, хорошая квартира, словом, все было. Правда, семья в то время, чернобыльское, жила в Грузии. Я – почетный гражданин города Кутаиси, через день после аварии в Киев приехала машина из Грузии, и мою семью – жену и двух сыновей – забрали и увезли в горы, подальше от радиации. А в то время мобильников не было и сообщить им о том, что меня перетаскивают в Москву, я не мог. Хотя жена и москвичка. В общем, я отказался и вернулся в Киев.
Еще через неделю снова меня вызывают в республиканское ЦК, тогдашний секретарь по идеологии твердо сказал: «Вы должны ехать в Москву, к Лигачеву». Я ему предложил: «Давайте скажем им, что я болен». А он поморщился и говорит: «Это воля партии, и если надо будет, то я на «скорой помощи» лично отвезу вас в Москву». Пришлось ехать.
– Как-то вы буднично об этом рассказываете. Неужели даже не робели, это все же ЦК КПСС был?
– Было, конечно, но скорее не робость, а некоторое напряжение. Я не знал, чего от меня хотят. Когда в первый раз был у Яковлева, заглянул в его приемную, а там сидят его помощники и смотрят на английском «Индиану Джонса», это было некоторым откровением для меня, что все так по-западному, современному. А с Лигачевым было по-другому, он вел патриотические разговоры. Взял из подстаканника карандаши, показал мне, как собирается стена в деревянной церкви, так же, говорит, держатся кадры в нашей партии. Он меня уговаривать не стал, взял за руку, завел за дверь, а там, мама дорогая, сидят все они, члены Политбюро. И при всех Лигачев – он вел заседание (Горбачев в тот момент был, кажется, в поездке) – сказал: «Есть предложение Михаила Сергеевича утвердить Виталия Алексеевича Коротича на должность главного редактора «Огонька». Есть возражения? Нет». Я вышел в приемную абсолютно ошарашенный, там сидят какие-то охранники, я взял и нахально с телефона позвонил себе в киевскую редакцию. А мне говорят, а ваше личное дело уже в Москву забрали. Я уже, оказывается, даже не работаю там. Это был апрель-май 1986 года.
– Почему ЦК КПСС был так важен «Огонек»? Означало ли это, что даже там понимали, что демократические преобразования неизбежны?
– Им нужен был редактор из провинции, они тогда начали брать людей с мест. А что такое демократические преобразования, они не знали. Я начал работать в «Огоньке». Первое, что сделал, все заготовки редакционные прочитал и все выбросил. Решил пойти по журналам, у меня были хорошие связи. Помню, первую прозу я набрал в журнале «Юность». Потом где-то еще. Не поверите, первые номера я напихал сам. Потом стал брать людей. Понемножку «Огонек» стал раскручиваться, причем я делал упор на документы, а не на комментарии к ним. Напечатал Гумилева. А тогда такое время было... Я, еще в Киеве, пытался напечатать «По ком звонит колокол», а там есть фраза про сына Долорес Ибаррури о том, что в то время, когда их окружают, он в Москве. И из-за этого уточнения нельзя было у нас печатать это произведение. Я был первым, кто его напечатал, так же как и «Крестного отца» Кьюзо. Я напечатал его с предисловием, что сын Долорес Ибаррури – Герой Советского Союза Рубен Ибаррури – погиб в Сталинграде.
– Так же изворачивались и в «Огоньке»?
– По-разному бывало. Однажды мы с Женькой Евтушенко поехали выступать в Ленинград. Огромный зал «Октябрьский». А перед этим выступал Дмитрий Язов. Он держал в руках «Огонек» и говорил о том, что эту бумагу порядочные люди в руках держать не должны. Ну и я не остался в долгу, правда, нашел самую деликатную по возможности форму. «Понимаете, – говорю, холодная война заканчивается, наступает миролюбивое время, и самые большие ракеты и самые большие дураки из нашего поля зрения уйдут». Назавтра я только с поезда в редакцию, звонок. Горбачев: «Ты что делаешь?! Марш ко мне!» Как же он меня материл, когда вызвал к себе. Просто как извозчик, я никогда не думал, что он такие слова знает. Ругался по-страшному, такой густой обкомовский мат, сказал, что в 3 часа дня будет Политбюро, где Язов и Крючков требуют вас снять. Но самое ужасное было в том, что, оказывается, ругал он меня так показательно для микрофонов, на которые между делом куда-то вверх указывал. Представляете, я все думал, кто же эти люди, которых должен так бояться генсек ЦК КПСС и для которых должен специально устраивать такое шоу. Он еще сказал: «Видишь, что это? Это расшифровка всего, что ты вчера молол». Буквально утром ему на стол все положили – это надо же так работать! Все это я выслушал. Потом он пододвинул ко мне тарелку с маленькими бутербродиками с колбасой – ешь.
– То есть на Горбачева так нажимали?
– У Горбачева был колоссальный комплекс неполноценности. Он пришел с таким южнорусским говорком, из провинции, и его, конечно же, подавляли такие московские штучки, как Лукьянов, например, или еще кто, такие ребята с манерами. Он, как и сейчас Медведев, раньше Путин, не знал в принципе, что происходит в стране. Это сейчас есть Интернет, а тогда Горбачеву утром приносили такую папочку, в которой была сводка, что вчера было по радио, телевидению, в газетах. Я помню, выступал как-то в МГУ и получил модный в то время вопрос, что я думаю о Раисе Максимовне. Я ответил, что мне неудобно это комментировать, вот буду говорить с Михаилом Сергеевичем, тогда у него и спрошу. Потом мне звонит Фролов, его помощник: «Как ты мог сказать такое?! Михаил Сергеевич так расстроился, что ты хочешь с ним поговорить о поведении Раисы Максимовны...»
Это очень интересная тема, эти чижики, которых никто не знает, они готовят подобные папочки, и они могут сделать с информацией все что угодно. Мне Яковлев даже говорил: «Ты знаешь, уже полгода он ни слова хорошего ни о тебе, ни обо мне не слышал. Вот так эти клерки могут блокировать позитив или негатив, без разницы. И они, эти люди, получается, влиятельнее, чем министр.
– А напрямую вы не могли говорить откровенно с Горбачевым о каких-то вещах?
– Были разговоры, но не до такой степени. Один раз я пытался поговорить и понял, что ничего из этого не выйдет. Я говорю, Михаил Сергеевич, вы понимаете, что вас не за что любить? Себе не берете и другим не даете. Сами не пьете и другим мешаете пить. За что вас любить? Я думал, что он обидится. А он говорит: «Да брось. Ты знаешь, я все время разговариваю с областями, знаешь, какой подъем у народа сейчас?» Я думаю, что он даже с собой не разговаривал откровенно. Он гнал от себя всякие сомнения. У Горбачева, как мне кажется, до сих пор ощущение, что он в большой политике и мир вертится по его указаниям. Я тут как-то читал его интервью кому-то, так там он утверждал, что перестройку вообще начал Брежнев, а если хорошо вспомнить, то ее истоки еще при Ильиче зародились.
Получается, он хотел чистыми руками помойную яму вычистить. Но так не бывает.
– Вот вы говорите, что упрекнули его, мол, сами не пьете и другим не даете. Он действительно искренне начал антиалкогольную кампанию?
– Трудно сказать. Я помню, как-то пришел к нему, а он мне анекдот рассказывает: «Огромная очередь за водкой, один мужик говорит, пойду, набью морду Горбачеву. Ушел, возвращается, его спрашивают, ну что, набил? Нет, отвечает, там очередь еще больше».
Я Михаила Сергеевича спрашиваю, а кто это вам такие анекдоты рассказывает? Есть кому рассказывать, отвечает. Второй интересный случай в связи со спиртным у меня был в Крыму. Там даже покончил самоубийством главный винодел Массандры. Он повесился, потому что старинные виноградники, еще XIX века, начали вырубать и засаживать дешевыми сортами винограда. Юра Черниченко написал в «Огонек» большую статью про все это, у них из-за этой статьи вырубка приостановилась. И когда я приехал в Крым, меня встречали как спасителя. Вот я пошел с местными хранителями в подвалы, они рассказывают: «Недавно здесь были Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной. Ходили, смотрели, мы показали Горбачеву портвейны чуть ли не столетние. А Раиса Максимовна говорит: «Миша, возьми бутылочку, мы этого еще не пробовали». Он помолчал, потом повернулся к ней и говорит: «Помолчала бы, хоть здесь». То есть где-то шла кампания, а где-то нет.
Вот кто был железным человеком, так это Егор Кузьмич Лигачев. Он действительно был трезвенником, и в 87-м году послал меня на месяц в Китай, чтобы я перевоспитался. Меня месяц возили по всему Китаю, кормили рисом, казарменные порядки. Я увидел то, чего никогда бы не увидел. Когда приехал, стал рассказывать Егору Кузьмичу о своих впечатлениях, все рассказал, а в конце была потрясающая деталь. Лигачев сказал, что «сослал» меня за то, что мы напечатали Гумилева. Я действительно его так любил, что взял и нахально напечатал в «Огоньке». Потом Лигачев подошел к двери кабинета, а над дверью полка раздвижная, он ее раздвинул и вынул оттуда в сафьяне три книжки. Говорит: «Знаете, я собирал где только мог его стихи, перепечатывал, а потом переплел эти три томика Гумилева. Это мой любимый поэт». Я просто обалдел, спрашиваю: «А чего вы не дали команду издать его? Мы же чуть ли не подпольно издавали, а могли бы┘» Но Лигачев ответил: «Это сложно».
– В народной памяти Лигачев остался не реформатором-демократом, а более жестким.
– Наверное, но он был понятный. Хотя и мог пленум ЦК закончить крестным ходом. Что-то такое в нем было. Но он был очень естественный и нормальный. Михаил Сергеевич, вот кто был весь в комплексах. Мне Яковлев говорил: «Ты его только не трогай. Нигде не ругай, ничего не делай, и все будет хорошо».
– Получалось?
 Виталий Коротич: «Был такой дурацкий лозунг «За нашу советскую Родину». Но она не может быть ни советской, ни антисоветской». Фото ИТАР-ТАСС |
– Я никогда не шел с властью на стык. Я очень люблю Ярослава Гашека и его Швейка. Солдат Швейк – мой любимый герой, это очень важно – на все смотреть слегка прижмурившись. Мы были первыми, кто снял орден Ленина с обложки, и я первым распустил парторганизацию «Огонька». Но делал это с умом, как бы придуриваясь. Когда мы сняли орден, меня сразу вызвали, сами понимаете куда. Я объясняю: идет новое время, на обложке может быть голая гимнасточка, какая-то попка девичья, а тут дорогой образ рядом. Как можно такое допустить?
– Вы же понимали степень риска, когда шли на такое?
– Я понимал, что главное здесь то, что им нельзя быть смешными. А когда я говорю им такое, то я дурак. Они же любят, чтобы другие были дураками. И мне это сошло. Все почти всегда проходило, если не упиралось в какие-то стены. Например, уперлось, когда надо было упираться, это уже 90-е годы были, мы давали родной партии 709 миллионов рублей ежегодной прибыли, в то время как «Правда» – около 5 миллионов. За наш счет они все жили, да еще при этом нас же и долбали. Нам начали ограничивать количество бумаги, тираж┘ Но к нам ходили все иностранные визитеры. И тут как-то пришел председатель Социал-демократической партии Германии г-н Фогель. Я ему прямо и сказал, что вкладки забирают, бумаги не хватает. Он тут же сказал, что Социал-демократическая партия Германии готова напечатать все цветные вкладки, которые у «Огонька» забирают. Только там должно быть указано, что это наша партия вам помогает. Я говорю: «О чем речь, спасибо!» Лет 15 назад меня бы за такие штучки посадили, но тут надо было делать что-то решительное. Параллельно написал хитрое письмо в ЦК, что издательство «Правда» отказывается выполнять договор, который у нас подписан с ним и за который заплатили наши подписчики деньги, и те вкладки, которые они оплатили своими трудовыми рублями, у нас снимают. Мы вынуждены искать выход из сложившегося положения. И приписка, что мы, конечно, сами не рады, что Социал-демократическая партия Германии будет нам помогать, но куда деваться? Тут же мы получили ответное письмо, что в связи с трудным состоянием российских дорог возможны нарушения в графике рейсов этих грузовиков, которые вам из Германии будут привозить вкладки. Поэтому может быть срыв всего печатания тиража. Лучше мы изыщем другие возможности. И изыскали.
Такие фокусы проходили: я должен был быть иногда дураком для высокого начальства, но в редакции я должен был быть самым умным. Я всегда следил за тем, чтобы мой авторитет был непререкаемым. А ведь в редакции были очень видные умные ребята. Тот же Артем Боровик, Дима Бирюков, Валя Юмашев и т.д. Я хотел перед ними быть умнее их. Я был горд, когда все они проголосовали за меня и избрали редактором свободным голосованием.
– И все-таки почему вы не боялись идти на рожон?
– Я боялся. Но боялся не до смерти. Страх – это естественное ощущение нормального человека. Я всегда боялся. Но в то же время очень рано понял, что деньги, квартира, прочие блага – это все так, фигня, важна только репутация. Если репутация сложится, то и все остальное. Поэтому благодаря репутации меня вдруг избрали в Верховный Совет народных депутатов, можно сказать, с улицы. Я очень этим дорожил, потому что где-то в 18 местах меня выдвинули. Работая в «Огоньке», я вдруг четко понял всю жлобскую систему власти. Я увидел ее близко, понял, как она работает и как это все гнусно. Гнусно не по каким-то политическим соображениям, а по уровню отношений, предательства, всего. Я понял, что надо уходить из «Огонька», но в то же время я не мог уйти. Мне в этом смысле очень помог переворот, потому что в душе я понимал, что меня скоро выжмут. Я не мог работать в журнале на каких-то коммерческих началах. Я поехал в Америку, меня пригласили в Бостонский университет, думал, годик поработаю, вернусь. А тут развалился Советский Союз, потом лопнули все мои сбережения, и тут, как ни странно, мне университет предложил контракт еще на три года. Мне дали сразу грин-карту как выдающемуся специалисту. Надо отдать должное американцам, они умеют хватать всех, кто им нужен. Я сам придумал интересный такой курс The west in the rest. Я рассказывал о Западе, о базовых ценностях, семье, жизни, детях, женщинах. Как это выглядит в мусульманстве, буддизме, христианстве.
– Присутствует грусть по американскому периоду жизни?
– Грусть есть по порядку, по системе критериев. Мне нравилось, что в конце каждого семестра приходила секретарша декана ко мне в класс и все студенты писали, отвечали на вопросы, что они обо мне думают. На это время я должен был уйти из класса. Они не подписывались в своих записках, потом это все шло декану. И он на основании этих ответов пересматривал мой контракт в сторону повышения или понижения. Каждый семестр! Слава богу, мне всегда повышали довольствие. Через 5 лет я уже мог принимать американское гражданство. Но я не захотел. Там, когда принимаешь гражданство, надо поднять правую руку и сказать, что я клянусь, что отныне все мои действия будут направляться на интересы США и я отрекаюсь от всех обязательств, которые я имел по отношению к моей бывшей стране. У нас как-то об этом не задумывались, но это было мое личное дело, я не захотел давать такой клятвы.
– Понятие родины для вас что-то значило┘
– Скорее порядочности. Родина для меня – понятие интересное, оно у меня не совпадает с государственными границами. Моя родина – это, пожалуй, восток и юг Украины, часть запада и юга России. У меня есть такая система, что есть понятие родины и есть понятие государства. И есть понятие страны, это результат геополитического деления мира. Был раньше такой дурацкий лозунг «За нашу советскую Родину!». Не может быть родины ни советской, ни антисоветской, есть просто родина. В этом отношении, живя здесь, в России, я ощущаю, что это тоже мой дом. Между Украиной и Россией не такая большая культурная разница, особенно на уровне интеллигенции. Даже более того, Москва мне понравилась тем, что здесь, как в Америке, можно пробиться, если ты чего-то умеешь. Если умеешь – не пропадешь.
Но я за естественный патриотизм, а не за тот, который воспитывается как форма постоянного напряжения, стрессового состояния. Потом – что еще вспоминается мне об Америке с нежностью, это то, что они умеют держать за морду своих чиновников. Президент США имеет оклад 400 тысяч долларов в год, а президент моего университета получал 600 тысяч. Те есть там президент – такой же подконтрольный человек, исполнитель, который получает зарплату. В России 500 тысяч служебных автомобилей. Это официальная статистика. У правительства США – 40 тысяч, у правительства Великобритании – 20. Когда я брал интервью у Маргарет Тэтчер, ее помощница за мной приехала на такси.
– Чувствуются горечь и разочарование, что настоящей перестройки не получилось.
– Получилось то, что и задумывали они. Во всех республиках начальники все больше начинали говорить о том, как Москва их грабит. В Узбекистане это взрывалось, в Грузии, в Азербайджане, в Украине говорили, что у нас все есть, а приходится все отдавать. Нигде, ни в одной республике не было людей, умеющих мыслить на уровне решений. Таких людей искореняли, изгоняли, забирали в Москву в конце концов. На местах должны были оставаться только исполнители. Поэтому, когда позже Союз развалился, не было людей ни в одной республике, способных руководить. На короткое время возникали какие-то национальные лидеры, которые затем опять сменялись Алиевым, Шеварднадзе... Каримов в Узбекистане до сих пор сидит. Везде остались те же самые партийные начальники, которые избавились только от одного – от необходимости ритуальных поклонов в сторону Москвы.
Для того чтобы у нас что-то новое получилось, тогда ли, сейчас, должна быть система взглядов, идей. Перестройка должна была быть чем-то большим. Вот в Восточной Европе она началась с отмены всех привилегий. Даже в Польше, которая далеко не идеал государственности, даже там закрыли все начальственные больницы, отменили все чиновничьи привилегии. Даже в Украине отменили мигалки, а в России, только в Москве их около 3 тысяч. Горбачев хотел перемен, но не понимал, чего он хочет. Это как слегка беременным быть. Откуда могли взяться люди нового формата? Был Яковлев, которого постепенно выдавили на обочину и которого я встретил во дворе Кремля в конце 90-х. Я говорю, что-то мы с вами давно не виделись. Он говорит, скоро нас с тобой под одну стенку поставят, вот и увидимся. У него уже возникали такие беспомощные ощущения. Горбачев понимал одно: он не хотел кровопролития. Я ему напомнил несколько лет назад про Форос: «Вы тогда из самолета, такой растерянный, в курточке, развели руками. А можно было выйти и сказать, спасибо, Борис Николаевич, что вы все это сделали, я возвращаюсь в Кремль, а Кантемировская дивизия выходит патрулировать Москву, так что все по местам. А он воскликнул: «Ты что! Знаешь, какая кровь могла пролиться!» Идея Горбачева состояла в том, чтобы немножко все почистить, тут подмажем, здесь подкрасим, и жизнь будет замечательной.
Потому я и ушел, что не видел механизма изменения. Мир уже привык жить без нас, более того, он умеет жить без нас. Даже без нашего газа умеет жить. А мы как бы идем по тонкому льду. Вроде гладенько, скользко, но в любой момент может треснуть. К сожалению, мы не стали интегральной частью человечества. Мы вывалились из него за советские годы.
Помню, когда Рыжкова в Верховном Совете, где я еще был, снимали, он сказал гениальную фразу: «Хорошо, другого премьер-министра вы себе найдете, а где вы найдете другой народ? А напоследок еще анекдот. Грустный, правда. «ВАЗ закупил новое оборудование, японский конвейер, все равно сходят с конвейера «Жигули». Купили французскую технику, подписали контракт с «Рено», опять «Жигули». Два рабочих на пригорке утром сидят, выпивают, смотрят на завод, который уже начал работать, один другому говорит: «Наверное, место несчастливое».











.jpg)