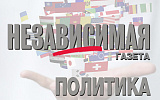|
| Участие в студиях – лишь подготовка к «одиночному плаванию». Константин Коровин. В лодке. 1915. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина |
Поэзия Николая Звягинцева уютна в своей герметичности, отталкивается от чуткого детского восприятия, но одновременно прозрачна, пронизана аллюзиями на литературу и историю. Автор точечно набрасывает приметы реального мира, которые, смешиваясь в «волшебном фонаре» или «театре теней», дают «вывернутый» образ. На странице 9 в рубрике «Пять книг недели» читайте про его новую поэтическую книгу «Все пассажиры». С Николаем ЗВЯГИНЦЕВЫМ поговорила Елена СЕМЕНОВА.
– Николай, ваша первая книжка «Спинка пьющего из лужи» вышла в начале 1990-х. Расскажите, как вы входили в литературную среду? Какая была тогда литературная жизнь?
– Да, книжка вышла весной 1993 года. За полтора года до этого, в ноябре 1991 года, я впервые выступал перед большой аудиторией на Всероссийском фестивале молодежной поэзии в Москве. С этого, собственно, все и началось: публикации, книги, выступления. А литературная жизнь... Мне всегда везло на хороших учителей, которым не скучно работать с молодыми поэтами, разбираться в их плохих стихах, что-то объяснять, рассказывать. Еще в школе ходил в литературную студию, которой руководил Герман Крупин; чуть позже была студия Ольги Татариновой (она потом называлась «Кипарисовый ларец»); можно сказать, что это была своеобразная подготовка к «одиночному плаванию» – окружающий мир еще не твой, но ты в нем уже ориентируешься, понимаешь, как он устроен.
– В чем выражалось ваше участие в крымско-московской поэтической группе «Полуостров»? Каковы были характерные отличия поэтов этой группы?
– Я, Андрей Поляков, Игорь Сид, Мария Максимова и Михаил Лаптев - не знаю, что на самом деле было у нас общего. Наверное, молодость и любовь к Крыму. Это был дружеский круг, который образовался в начале 90-х; можно сказать, на фоне крымских форумов, которые Игорь Сид проводил в Керчи с 1993 по 1995 год. Во всем этом присутствовало (не думаю, что дело только в возрасте) некое ощущение общего пространства, совершенно открытого: можно придумать собственный Крымский клуб, делать фестивали, издавать книги, вместе выступать. И быть при этом совершенно разными поэтами.
– Некоторые называют 90-е тяжелым временем для поэзии, другие – наоборот, считают, что в это время молодые поэты, «переработав» опыт поэзии XX века, вышли на иной уровень. Как у вас происходила «постановка» поэтического голоса?
– Для поэзии это было совершенно естественное время для развития – советская поэзия уже провалилась в тартарары, а формирующееся новое пространство еще не успело окостенеть (увы, по прежним правилам). Для меня лично это было еще и время именно читательского опыта, потому что «белых пятен» в литературе практически не осталось.
– Кто для вас главные поэты, сыгравшие важную роль для развития? Кого считаете непосредственными учителями в литературе? Кто наиболее близок из поэтов-современников?
– Мне представляется, что у всех поэтов моего поколения был более-менее одинаковый круг подражательства, плюс-минус по вкусу, все их знают, но это общий фон, который не производит ничего индивидуального; такая, можно сказать, «меблировочная музыка». Гораздо интереснее какие-то случайные собственные открытия, вот они дорогого стоят. Но это, прошу прощения, очень личное.
– В вашей поэтике мне чудится «тактика перехвата» – вы успеваете уловить тень ощущения, ассоциации, когда они еще не успели оформиться в смысл. Я правильно думаю или это по-другому происходит?
– «Мысль летит впереди паровоза»; боюсь, это про меня. И когда пытаешься уместить в короткое стихотворение слишком много образов. Но для меня это главное – первое впечатление. Как раз в начале девяностых был в гостях у одного старого питерского художника, акварелиста, мастера (ему самому тогда было около 90 лет). И он свысока, но дружески подшучивал: зачем люди вообще ходят на этюды и рисуют с натуры? Сидеть несколько часов, пытаясь запечатлеть и объем, и свет, и цвет? Они же меняются каждую минуту, а ты устаешь, злишься и замерзаешь... Гораздо интереснее сделать набросок, а остальное запомнить, чтобы потом сделать именно то, что хочешь. Или сделать, как Моне с Руанским собором...
– В какой момент создания стихотворения вы осознаете, о чем оно будет?
– Что значит: о чем? Это точно не про меня. Никогда не ставил таких задач – писать «о чем-то». А если «каким» – это где-то в самом начале, когда поймал размер, музыку, сделал тот самый набросок; потом может еще много времени пройти, но каким стихотворение будет, уже известно.
– В ваших стихах, даже когда трудно уловить чувственную цепь ассоциаций, ощутимо что-то укромное, детское, сокровенное, через него вы выходите на общекультурные смыслы. Ощущаете ли вы это как «строчки с кровью» или это ближе к игре?
– Сама возможность детского взгляда и отличает поэта от непоэта, мне кажется. А насчет «строчек с кровью» или игры – это же не степень прожарки стейка, в конце концов. Да и самой «кухни» никто не видит, поэтому сказать с точностью про конкретное стихотворение, что оно собой представляет – крик души или мастерское ремесленное произведение, сложно. Да и нужно ли?
– Рифма у вас неточна, почти условна, однако каждый раз возникает ощущение точности именно смысловой. С чем бы вы сравнили то нанизывание, обозначение смыслов, когда вы строите стихи?
– Насчет того, что условна, поспорил бы, но точностью не отличается, да. Для меня гораздо важнее некая собственная мелодия, вокруг которой все происходит. И обязательства у меня перед этой мелодией, а не перед чем-то формальным.
– Могли бы вы вспомнить какие-то мистические, может быть, визионерские случаи, переживания в жизни, связанные с поэзией?
– Не отношу себя к поклонникам подобного жанра, но случай все-таки был. В октябре 1985 года, в армии; я с несколькими такими же солдатами ехал к новому месту службы. Трамвай идет по центру Львова, я с вещмешком за спиной стою на задней площадке и просто смотрю в окно. Красивый старый город, осень... И вдруг понимаю, что это какая-то, вполне себе мистическая, точка невозврата, что теперь я буду другим, и стихи будут другие, что я теперь по-другому чувствую и вижу. Никогда такого не было, ни до, ни после.
– В литературной жизни (или вообще в жизни) есть знаковые моменты – встречи с людьми, ситуациями, явлениями, которые вдруг сильно изменяют нас. Можете вспомнить такие моменты в своей жизни?
– Это уже в рамках рационального. Конечно, не как со львовским трамваем... Например, всегда было очень сильным воздействие чужих стихов, которые ты любишь и знаешь наизусть и вдруг слышишь вживую, в авторском прочтении. Или оказываешься в реальном (городском, например) пространстве, которое до этого было – боюсь второй раз сказать слово «наизусть» – знакомым, но по книге, по литературе. Бывает и наоборот: читаешь чужое стихотворение, где есть описание реального, хорошо знакомого тебе места, и думаешь: «Как же так... Я видел, а он написал. Это же мое стихотворение...»
– Полезна ли критика поэтам? И если да, то в каком виде? В виде филолого-анатомического исследования или отзыва-эссе, к которому и не применишь слово «критика», а, скорее «мнение»? Принесла ли вам пользу критика стихов?
– Критика полезна, когда она исходит от лица, которому доверяешь, – учителя, собрата-поэта, просто от человека, в обоснованности суждений которого не сомневаешься. Кстати, в этом случае «лагерь», к которому критик принадлежит, – дело десятое. В каком виде критика (кому-то необходимо произвести нудное исследование, кто-то способен поставить диагноз на ходу) – просто разные задачи ставятся и решаются. Если говорить обо мне, польза от подобной критики была несомненной, хотя иногда все происходило довольно болезненно для самолюбия. Какая критика вредна? Критика для галочки, критика-отписка (как в советское время литконсультанты писали отзывы на «самотек»). Критика как способ самовыражения или достижения личных целей. Самая вредная – коллективный разум, когда автора «разбирает» толпа ему подобных, как это принято в некоторых литературных институциях. От этого возникает средняя температура по больнице или, как в том анекдоте, «...до мышей».