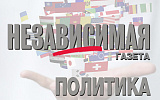|
| Милорад Павич – пятая колонна массовой
литературы внутри постмодернизма. Фото Interfoto/ТАСС |
Мир еще не забыл «феномен Павича» – «последнего из великих и ужасных писателей XX века» (наиболее «ужасны» в этом ряду великих Джойс, Борхес, Кортасар, Кальвино), «первого писателя XXI века», «основоположника интерактивной литературы» и «предтечи электронной гиперлитературы». Не забыл, но на вопрос, в чем же он – «феномен Павича», так толком и не ответил. <…>
Железный занавес. Forma formans или forma formata
Первое, что должно зачаровывать в Павиче, – это жанровая оригинальность, форма подачи текста. «Хазарский словарь», «Внутренняя сторона ветра», «Последняя любовь в Константинополе», «Пейзаж, нарисованный чаем», «Ящик для письменных принадлежностей», «Стеклянная улитка», «Вечность и еще один день» – роман-лексикон, роман-клепсидра, роман-таро, роман-кроссворд, повесть – письменный ящик, метароман, пьеса-меню. Павич очень старается соригинальничать и удивить, и, может быть, где-то в его архиве хранятся задумки романа-путеводителя, пьесы-метро, повести-ножниц – да что угодно: поэма-носки, трактат-ухо, эпопея – собачья конура.
Но необычность жанра не должна нас пугать: каждый без труда может изобрести несколько сотен новых жанров как способов структурирования текста. Другое дело – воплотить, да? Но и тут Павич далеко не самый первый и самый великий. Они, великие экспериментаторы, названы в начале статьи, и, как ни крути, все равно «Хазарский словарь» как лексикон и «Пейзаж, нарисованный чаем» с отгадыванием ключевых слов по вертикали, по горизонтали, даже с приложением разлинованного листа, озаглавленного «Место, предоставленное читателю для того, чтобы вписать развязку романа или разгадку кроссворда», – в хвосте у них. Тому, кто в свое время вдосталь наигрался с Кортасаром в классики, вряд ли захочется разгадывать павичевский кроссворд. Наигрался и, кстати, понял, что как ни читай текст, хоть задом наперед, хоть по диагонали, тот всегда остается самим собой. (Здесь опущена теоретическая часть статьи, связанная с понятием игры, – цитаты из Хёйзинги, обязанные появляться при ее упоминании.)
Ясмина Михайлович, литературовед и вдова Павича, пишет: «Жизнь художественного текста сегодня, в конце XX века, продолжается в кажущейся бесконечности, свойственной компьютеру, в гиперпространстве, где технология электронной записи, так называемый гипертекст, приводит к созданию более сложных и многомерных связей между сегментами текста, образуя в данном случае некую специфическую сеть. Создание многочисленных вариантов и версий произведения, новых слоев и соединений смысловых центров через читательскую дигитальную организацию текстовых фрагментов позволяет и читателю, помимо писателя, стать творцом текста» («Павич и гипербеллетристика»).
Спасибо, конечно, но такое право на соавторство – обязанность скорее – у читателя было задолго до компьютерной эры и Павича, собственно, всегда. И речь не об архаичном коллективном мифотворчестве, а о самом обычном процессе чтения, строящемся на идентификации, узнавании, додумывании, наложении сюжета книги на читательский опыт. 10 слов любой газетной информашки каждый прочтет по-своему, и нет двух людей, читающих даже одно-единственное слово одинаково, как нет двух людей с совпадающими дактилограммами. Характер, воспитание, образование, минутное настроение, погода, калорийность съеденного или недоеденного (тем более) завтрака-обеда, прочитанный предыдущий текст, звук, сопровождавший прочтение текста, зачесавшаяся левая нога – абсолютно всё становится определяющим фактором в процессе восприятия текста и формирует «здесь и сейчас» личность читателя. Смыслы, вкладываемые писателем в текст и извлекаемые читателем из того же текста, совпадут хорошо если на 10%. Остальные 90% читатель продуцирует уже не из текста, а из себя, хотя и будет считаться, что это их дало ему произведение («музыка навеяла»). Такие «многочисленные варианты», неожиданные «соединения смысловых центров» и «сложные и многомерные связи», какие дает мозг, пока не может предложить никакая «гипербеллетристика».
Итак, читатель всегда соавтор произведения, и в большей мере, чем «биологический» автор текста. Поэтому завизжавшая за стеной у соседей кошка раскрасит текст в восприятии читателя намного сильнее и шире смысловыми оттенками, чем расположение глав по горизонтали и вертикали, кверху задом или позой Ромберга.
Поблагодарив гипербеллетристику за безграничное расширение смысловых возможностей текста от лица читателей, поблагодарим и от лица литературы. То, что может дать гиперпространство компьютерного экрана, – все-таки мелочь, ерунда по сравнению с тем, что изначально вложено в текст «Большим временем культуры». (На этом месте пропущены цитаты из Бахтина – по поводу металингвистики и пр.) Более того, эти два рода структуры – интертекст и гипертекст, как правило, создают помехи друг другу: ассоциативные мостики, перебрасывающие нас от читаемого текста к пратексту, разрушаются гипертекстовыми отсылками куда-то вбок, и смыслы возникают не благодаря усложненной конструкции, а вопреки ей, им приходится продираться сквозь преграды и лабиринты чисто формальных игр, расходуя себя на них, теряя в содержании. Форма, разумеется, содержательна тоже, вопрос в том, насколько она содержательнее самого содержания. И это как раз случай Павича.
Но не стоит думать, что усложненная конструкция у Павича рассчитана на читателя-сверхинтеллектуала, как у Джойса или Кортасара. Нет, Павич завоевывает массовую аудиторию, он популярный – в отличие от них, и привлекателен для широкого читателя. И секрет, первый из, невероятной популярности Павича – в жанровых особенностях: «лексикон», «кроссворд», «меню», «таро». Потребитель-то массовый!
Литература постмодернизма, к которой принято относить и Павича, да, активно эксплуатирует жанры массовой культуры: «Волхв» – триллер; «Имя розы» – детектив; «Если однажды зимней ночью путник» и «Тетушка Хулия и писака» – мелодрама. Но эти вещи не массолит, они пятая колонна в нем, изнашивают его «стилистические маски», как говорит Джеймисон, изнутри борются с «иллюзионизмом массовой культуры», как говорит Илья Ильин. Хорошее слово «иллюзионизм», запомним его.
Да, постмодернисты издеваются над массовой культурой, Павич паразитирует на ней. Если постмодернизм – это пятая колонна внутри массовой культуры, то Павич – пятая колонна массовой культуры внутри постмодернизма. Широкий потребитель всегда предпочтет Павича Фаулзу или Борхесу, их тиражи не сопоставимы. Массовость и популярность – вообще диагноз. Ни Беккету, ни Грассу, хоть тресни, никогда не стать массовыми и популярными. <…>
Внутренняя сторона ветра. Шутки в сторону
Постмодернисты – мастера неявной такой пародии, пастиша. Очень непросто разглядеть в «Порою блажь великая» Кизи пародию на Супермена и героев вестернов-боевиков, всё принимаешь за чистую монету.
А кого-что пародирует Павич? Ну, скажем, Батая:
«В следующий раз он увидел ее одиноко стоящей на фоне желтой стены на школьном дворе. Она смотрела на него остановившимся взглядом, не отвечая на приветствие. После нескольких минут молчания она изрекла:
– Ты, Атанас Свилар, для меня староват! Ищи себе другую. Я люблю совсем маленьких мальчиков, помоложе меня.
– Да ведь и я предпочитаю девочек помоложе, – ответствовал он. – С удовольствием трахнул бы одну из твоих кукол. Принеси-ка мне в следующий раз какую хочешь.
В ответ Витача стала потихоньку опускаться на корточки, сидя лицом к своему кавалеру. Не успела она присесть, как между ног у нее сверкнула блестящая и острая как бритва струя длиной метра в два, направленная прямо в него. После этого случая они долго не виделись». Ну да.
У Батая в «Истории глаза»:
«Тут я должен признаться, что непосредственно к занятиям любовью мы приступили не сразу. Мы использовали любую возможность, чтобы предаться нашим играм. <…> Потом она улеглась головой к моему мальчику и, опираясь коленями о мои плечи, подняла зад, подтянув его ко мне так, что моя голова оказалась на его уровне.
– Ты можешь пописать вверх и достать до моей попки? – спросила она.
– Да, – ответил я, – но писанье потечет тебе на платье и лицо.
– Почему бы и нет, – сказала она, и я сделал то, о чем она просила».
Или отсылка к «Парфюмеру» Зюскинда в «Ящике для письменных принадлежностей», где героиня мыслит запахами:
«В это утро я снова лгала во сне, а ложь имеет запах. Она пахла capture «Contour de l’oeil Christian Dior». Этот запах и разбудил меня.
Поднявшись с кровати, я выпила две китайские чашки воды, надела перстень, выкованный в третьем веке новой эры для левой руки какой-то женщины, и застегнула на лодыжке цепочку часов «Tissot».
Тут кто-то позвонил.
«Hermes», parfum spray «Caleche», – определила я, принюхиваясь к входной двери. Это была моя сестра Ева.
– Мне кажется, тебе следует сменить image, – сказала я ей.
Мы направились в центр города. В первом же бутике я купила ей «Amarige de Givenchy» в металлическом флаконе, похожем на консервную банку, и одноразовое вечернее платье из золотистой бумаги, сшитое по модели одного из известнейших парфюмеров. Ева была в восторге, а я, понюхав продавщицу, которая упаковывала наши покупки, шепнула сестре:
– У этой третий день!
После этого мы проследовали в роскошный меховой салон, скрывавшийся в зелени авеню Montaigne. Едва мы вошли, нас окутал аромат искусственных фиалок, распространявшийся из подключенных к сети пульверизаторов. Через центр зала тек демонстрационный подиум, навстречу нам шел молодой человек с волосами, стянутыми в хвостик на затылке. Я, как и обычно, подбрасывала рукой лимон, время от времени нюхая его. С паузами в такт тем мгновениям, когда лимон находился в воздухе, я прошептала сестре:
– Этот наяву здоров, а во сне болен.
Словно услышав, он пробормотал под нос:
– Болезнь всегда старше здоровья!»
Ага, пошла «философия».
Подобных отсылок, «аллюзий и реминисценций», у Павича много, но радости они не приносят никакой: «Улисс» уже написан, да и сам Павич далеко, очень далеко не Джойс. Разгадывать их малоинтересно и как-то ни к чему, никакого внутреннего интертекста они не образуют и чаще всего просто шутки юмора – одноразовые, сиюминутные. Ну вот послышалось вам в «Из дома он взял одну только семейную икону «Иоанн Предтеча бреет свою отрубленную голову» митьковское «Митьки приносят свои уши Ван Гогу» – и что? Больше оно никак не сыграет в тексте, ни за что не зацепится, проехали и забыли, как проехал и забыл сам автор.
Павич именно что развлекает читателя – и больше ничего. Причем нередко подбирая совсем уж полову: из лексикона прописных истин («в доме повешенного не говорят о веревке»), просто речевую банальщину («это было так давно, что уже неправда»), анекдот с бородой или давая, как в третьесортных американских боевиках, имена героям Разин и Толстой. Кстати, об анекдотах. Кто обладает чувством юмора, рассказывает их без аффектаций. Плохой рассказчик – с ужимочками, еще и всё переврет. И разжует в конце.
Вот как пересказывает анекдот Павич (он у него выделен курсивом и, к слову, выдан за притчу):
«Усадил дед своего внука и рассказывает ему сказку. Только внук и есть внук: вертится и прерывает деда.
– Дед, – спрашивает он, – слышал я, поминают люди какое-то странное название: Чернобыль или что-то вроде того... что это такое?
– Э, дитя мое, – отвечает дед, – длинная и старая это история. – И погладил внука по головкам.
Обрати внимание, не по головке, а по головкам...»
В оригинале, вдруг кто забыл, дед говорит: «Эх, внучок», – и гладит его по головке, а потом продолжает: «Долгая эта история…» – и гладит по другой головке: соль анекдота.
В общем, понятно, на кого рассчитан весь этот юморок, все эти «балалайки».
Бумажный театр.
Пропавший сюжет
и «мочиться с коня»
Сюжет у Павича просыпается сквозь слова, отторгается не на второй – на десятый план. Казалось бы, персонажи снуют туда-сюда по всему миру, скачут из IX века в XVII, а оттуда в XX и обратно, перерождаются, воплощаются, реинкарнируются – а действия нет. Они только ерзают и суетятся, движения их мультяшны.
Нам объясняют: «Перед нами комплексный многомерный носитель повести со всеми признаками хронотопа Павича, с материализованным временем и дематериализованным пространством, которые должны спасти нас от смерти, направить нас к перерождению» (это о «Ящике для письменных принадлежностей» – статья Драгини Рамадански «Гомологон человеческой души»). Проговорка действительно по Фрейду: такой хронотоп с таким временем и таким пространством, и чередой перерождений, сам автор хронотопологии называл хронотопом авантюрно-бытового романа, в котором (здесь для разнообразия процитируем) «на основе метаморфозы создается тип изображения целой человеческой жизни в ее основных переломных, кризисных моментах: как человек становится другим. Даются разные и резко разные образы одного и того же человека, объединенные в нем как разные эпохи, разные этапы его жизненного пути. Здесь нет становления в точном смысле, но есть кризис и перерождение. <…> связь между судьбой человека и миром носит внешний характер. Человек меняется, переживает метаморфозу совершенно независимо от мира, сам мир остается неизменным. Поэтому метаморфоза носит частный и нетворческий характер» («Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике»). Ну а авантюрно-бытовой роман – дедушка массовой литературы с ее установкой на чистую развлекательность.
В павичевском варианте авантюрно-бытового романа нагрузка, не скажу – смысловая, переносится с сюжета на фразеологические фокусы-покусы и жонглирование аллюзиями, разгадывать которые неинтересно, потому как они случайны для событийного ряда текста, и вообще – в цирк приходишь развлечься, и без разницы, из какого рукава фокусник достает кролика и как он это делает. Так и с Павичем: жонглирует, показывает фокусы – и пусть ему, такая у него работа.
Сюжет у Павича конфликтует со стилем почти всегда. И только в редких случаях, когда исчезают фокусы-покусы, становится сюжетом. Так в главе «Разин», начинающей книгу вторую – «Роман для любителей кроссворда» – «Пейзажа, нарисованного чаем», Павич бросает гримасничать и рассказывает историю более-менее складно, и она, по характеру тоже анекдот, звучит. Сталинские времена, видного московского математика Разина насильно вступают в партию. Весь в науке, Разин на партсобрании применяет методы математического анализа в партийном строительстве, после чего швейцар отводит его в сторону, сует 30 рублей и советует, не заезжая домой, ехать на любой вокзал, садиться на любой поезд и выходить только на конечной станции. Разин так и делает. Добравшись до занесенного снегом далекого северного городка, он, не найдя гостиницы, чтобы согреться, берет лопату и принимается разгребать снег (руководствуясь математической системой). Так он начинает новую жизнь и становится лучшим дворником города и чуть ли не страны, через два года в «Правде» выходит статья о его трудовых подвигах. И снова приходит партия и предлагает вступить в нее. Разин отговаривается тем, что неграмотный, и тогда его направляют на курсы ликбеза. Под диктовку учительницы он среди 24 учеников «учится» рисовать палочки и считать. Но один раз его прорывает: когда все ученики вслед за учительницей громко повторяют вслух «Один плюс один будет два», Разин заявляет, что это устаревшие данные математики из прошлого века, берет мел, исчерчивает всю доску уравнениями и формулами и получает… 1+1=2. «Где-то вкралась погрешность», – вскрикивает видный математик и берется за расчеты снова. И тут весь класс, все 24 дворника, кроме учительницы, начинают громко подсказывать: «Постоянная Планка! Постоянная Планка!»
Правда, мило? И пусть даже Павич откуда-то это слямзил, главное, что история рассказана без такого: «Был он довольно неотесан, вместо усов и бороды у него росла какая-то трава, женщины утверждали, что спит он голый, перепоясавшись кожаным ремнем, а мужчины – что он может мочиться с коня на полном скаку». Ремарка: характеристика «умеет мочиться с коня на полном скаку» означает у Павича очень хорошего человека, это первое качество положительного героя, почему – не знаю, но они и в «Хазарском словаре», и во «Внутренней стороны ветра», и в «Последней любви в Константинополе», и вот здесь в «Пейзаже, нарисованном чаем» обладают этой удивительной сверхспособностью. Специалисты-психоаналитики, наверное, смогут ответить.
И это не единственный самоповтор у Павича, собственно, по большому счету он весь самоповтор – в характерах, характеристиках, образах и образе действия героев, – но отвлекают, пускают пыль в глаза фокусы-покусы, и не замечаешь, не видишь. Зато сразу обращаешь внимание на их отсутствие – когда Павич перестает быть Павичем. И тогда он напоминает то Довлатова, то Гоголя, то Чехова, то кого-то из французов.
Но Гоголь и Чехов не постмодернисты, а Павич должен соответствовать. Думается, именно отсюда берутся в его текстах тягостные, нудные теоретические построения – это то, что в постмодернизме называется «высокой степенью теоретической саморефлексии». Заводя шарманку, начиная теоретизировать, Павич напоминает уже не Гоголя, не Довлатова, а иллюзиониста, выходящего на арену и вдруг на полном серьезе читающего нам лекцию о Канте. Хотя какой там Кант, «теоретические саморефлексии» у Павича выходят совсем уж убого, строятся на мелочи, ерунде и выглядят напыщенной банальностью. И опять же, как с «мочиться с коня», Павич долбит одним и тем же везде. Это даже можно было бы принять за пародию или самопародию, но нет, это китч и автор делится сокровенным. Так, в «Пейзаже, нарисованном чаем» пять раз по ходу повторяется практически дословно бесхитростная и не стоящая выеденного яйца притча об афонских монахах – идиоритмиках (одиночках) и кенобитах (общинниках). В итоге Павич раздувает ее чуть ли не до Нагорной проповеди, классифицируя по принципу идиоритмизма/кенобитизма всех людей, профессии, историю и т.д., подключая к этому проблему отцов и детей, и объясняет, как решать его роман-кроссворд идиоритмикам, а как – кенобитам. Да еще и публикует отдельно программную статью – такие себе «Заметки на полях «Имени розы» низового постмодернизма – «Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства?», чтобы в конце ее, потупив скромно глазки, заявить об «идиоритмике XX века по имени Милорад Павич». Ох.
К слову, общинники в «Пейзаже, нарисованном чаем», – кенобиты, а в «Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства?» – киновиты. Как и в «Хазарском словаре» – Царьград, а в «Последней любви в Константинополе», которая на оригинале «Последња љубав у Цариграду», – сами видите. Но это уже претензия к переводчикам: Савельевой и Вагаповой с Грецкой, которые почему-то не смогли договориться между собой. Или к издателям: спешка, спешка, чтобы поскорее выпустить книгу модного массового автора.
Кровать для троих.
Выводы
Лучше ли Павич дамского романа, порнушки, шпионского триллера или фэнтези? Не важно. Массовая литература, принявшая или даже родившая его, найдет место для всех. Публика, человек-масса (здесь напоследок возникают-исчезают цитаты из Ортеги-и-Гассета насчет «восстания масс» и всего такого, вы знаете) схавает.
Что касается выводов, то они те же, что и в «Анти-Мураками» (см. «НГ-Ex libris» от 13.08.15): «Массолит наносит ответный удар: коммерческая литература отказывается от старых форм и активно мимикрирует под высокую» и т.п.
Харьков (Украина)