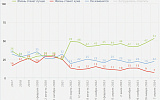Владимир Герцик за чашечкой чая. Фото автора
Владимир Герцик за чашечкой чая. Фото автора
Владимир Герцик – видный представитель подпольной поэзии советской эпохи, последователь Хлебникова. В годы учебы был одним из организаторов неформального поэтического общества на физфаке. Вместе с Борисом Шапиро создал концепцию и манифест поэтической группы пресемантиков. С Владимиром ГЕРЦИКОМ побеседовала Елена СЕМЕНОВА.
– Владимир Маркович, какие авторы, книги сформировали вас, произвели впечатление?
– Однажды я постановил себе выбрать, ограничившись пятью человеками, моих любимых авторов – поэтов Серебряного века. Получилось: Хармс, Хлебников, Ходасевич (три «Х»), потом Кузмин и Мандельштам. Ну, конечно, еще очень близок Николай Заболоцкий. Почему именно эти авторы? Попробую объяснить. Потому что для меня стихотворение – это не способ передачи смысловой информации. Оно само собой представляет эстетический объект, как скульптура, ваза какая-нибудь, перламутр, жемчуг, грубый камень.
– Это как у Гумилева: «Но что нам делать с розовой зарей/ Над холодеющими небесами,/ Где тишина и неземной покой,/ Что делать нам с бессмертными стихами?/ Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»
– Да-да, именно так. Можно писать стихи, а можно писать стихами. Это совершенно разные жанры. В Советском Союзе было разрешено только писать стихами, и я, ну не с детства, а с более зрелого возраста возненавидел советскую поэзию. У нас с Ирой на советских поэтов было табу – мы их не читали никогда. Впрочем, если порекомендуют, читали, конечно. Скажем, Давида Самойлова. Да, конечно, милый человек, талантливый. Но он разжиженный, он самоцензурой испорчен. Песни Клячкина на стихи Бродского гораздо лучше, чем его (Бродского) поздние стихи. Ранний Бродский нас интересовал, а потом перестал интересовать. Ну, а подполье, конечно, это совсем другое дело… Это мои друзья прежде всего. Хотя связи в Москве были очень оборванны. Мы не знали слова «СМОГ», у нас не было выхода на этих поэтов. У нас на физфаке было свое сообщество.
– Не могли бы вы вспомнить атмосферу вашего поэтического общения в годы учения на физфаке?
– Это занятная была история. Правда, не помню, кто это общество организовал. Но я сам был достаточно активен. Я ходил в учебную часть и спрашивал: нет ли у вас свободной аудитории, где бы мы могли собраться, почитать стихи и пообсуждать? Мне говорили, что есть, и давали нам аудиторию. Мы там собирались, уже не помню, как часто. Может быть, два раза в месяц. А дальше произошла следующая история: мы закрылись. Однажды Боря Шапиро вошел в главное здание МГУ, к нему подошли два крепких паренька, взяли его под ручки, отвели в маленькую укромную комнатку и сказали, мол, вот у вас там есть какое-то литобъединение странное, и мы никак не можем внедрить туда своего человека. Поэтому этим человеком будете вы. Боря пришел и говорит: все, ребята, мы разбегаемся. Ну, мы и разбежались. Конечно, у нас было все не так жестко организовано, и личные контакты никуда не делись. Но года два мы просуществовали.
– А название было?
– Да не было названия. Хотя Боря Шапиро считает, что оно называлось «Кленовый лист».
– Простите, не расслышала – хреновый?
– Кленовый. Хотя «хреновый» было бы интереснее (смеется).
– А кто кроме вас и Бориса Шапиро входил в общество?
– Олег Назаровский. Был замечательный поэт Володя Ганшин, Ольга Дмитриева, Люда Вахнина – она стала правозащитницей, в сети Facebook сейчас она есть. Петя Чахотин – не знаю, жив ли он сейчас. Он уехал во Францию. Всех не помню. Был мой близкий друг Анатолий Белов, но он не стал развиваться в поэтическом направлении, работает сейчас в ИЗМИРАНе, в Троицке.
– Не было ли у вас каких-нибудь ярких перформансов?
– Да. Однажды. Был у нас такой Костя Желдин, актер из Таганки. Жив ли он сейчас? Нет, не жив. Он в «Семнадцати мгновениях весны» играл немецкого офицера, которого Штирлиц вырубает ударом бутылки по голове. И вот он поставил поэтический спектакль на сцене ДК МГУ, где студенты-актеры читали наши стихи.
– А где-нибудь еще помимо универа встречались, были у вас знаковые места?
– Нет, не было. Правда, зашли раз к Сергею Поделкову – поэт такой был, вел официальное литобъединение в МГУ. Нам стало там скучно, неинтересно. Я даже помню, как поэт Вадим Рабинович читал там стихотворение: «Довлело проклятье над маленькой джати,/ Нельзя убивати, нельзя убивати». Это он из целой религии джайнизма высосал некое племя «джати».
– В вашей биографии написано, что вы начали сохранять стихи с 1968 года, хотя писали и раньше. А почему вначале не фиксировали?
– Нет. Я фиксировал. Но в тот момент я все, что было, отмел. Потому что я вдруг прочел Хлебникова. В 1968 году я женился на Ирине Семеновне Добрушиной. У нее была библиотека, которая мне и не снилась. Мама ее собирала. И там был второй том Хлебникова, который у нас потом украли. Вначале я думал, что я его не понимаю. Я сидел, читал целый год, и вдруг у меня случилось «великое просветление». Я понял, что его не нужно понимать головой. Его нужно слушать. Слышать. Очень важный компонент – звук. И это изменило мое представление о поэзии вообще и о своих стихах в частности. У меня были вполне неплохие стихи, да. Но тем не менее они были мной «отрезаны».
– Вы по первому образованию физик. В стихах же физические законы не работают. Какие у вас отношения с материей и образом?
– Я не верю в материю. Я буддист. Это другой мир, в котором не существует подобных определений. Есть наблюдаемый мир, в который входит внешний мир – условно говоря, материальный, и внутренний мир – как бы нематериальный (мысли, чувства, ощущение собственного «я»). А есть наблюдатель, который информационно пуст, о нем ничего не известно. Поскольку, если бы было что-то о нем известно, он уже был бы наблюдаемым. Но это на самом деле и есть «я». Это самое простейшее объяснение дзен-буддизма.
– Вы считаете Хлебникова революционером в поэзии. Может ли революция в поэзии влиять на ход истории?
– Я в этом не уверен. История – слишком консервативная вещь. Хоть и с небольшими отличиями, но она все время повторяется. Поэзия не имеет отношения к истории. А к истории искусства, безусловно, имеет. Смотрите, у Хлебникова огромное количество последователей начиная с самого Мандельштама. У него учились Кузьмин, Маяковский, обэриуты все, Вознесенский, Соснора – в общем, все, кто умеет делать что-то по-настоящему. Хлебников, как и Пушкин, совершил огромную реформу для своего века.
– Если вспомнить, как «нагроможден» был язык Тредиаковского, то можно считать, что Пушкин упростил его. А Хлебников что сделал?
– Я не думаю, что Пушкин упростил язык. Он его просто реформировал, сделал его более понятным, разговорным, если угодно, но и более богатым. А Хлебников открыл новое пространство, которое касается бессознательного. Это другой уровень. Кстати, я Пушкина стал слышать по-настоящему только тогда, когда прочел Хлебникова. Сначала я его понимал по содержанию, а потом стал «понимать» по звуку. Это было открытие.
– Кстати, пора вспомнить и образованную вами группу пресемантиков. Расскажите о ней.
– Это такой досмысловой слой. Термин придумал Борис Шапиро. Мы с ним обсуждали все это, еще будучи студентами. Ну, мы немножко по-разному это все интерпретировали. И эти споры, как я потом прочел, были похожи на споры в IX–X веках о теории дхвани. Для меня пресемантика – это то, что предшествует стиху, это внутреннее состояние сознания, из которого рождается стихотворение. Рождаясь, оно пытается некоторым способом зашифровать состояние сознания – ощущение непонятного, невыразимого. И слушатель, или, лучше сказать, ценитель, как бы расшифровывая это, должен попасть именно в то же самое состояние сознания. Происходит передача состояния сознания независимо от времени и места. Поэтому я могу получить состояние сознания, которое зашифровал Пушкин. При этом разные компоненты стихотворения – смысл, ритм, звук, интонация – это инструменты оркестра, всю музыку играет целый оркестр. И смысл – не обязательно ведущий инструмент. Он, безусловно, работает, но он не главный. Можно вообще писать стихи без смысла, без слов. Заумь. У меня даже есть пять-шесть таких.
– Какие из новых форм бытования поэзии вам близки? Я имею в виду интернет-жанры вроде «пирожка».
– Я отношусь к этому скептически. Вот хокку я написал больше тысячи. Для русской поэзии это новая форма, естественно. И я все время эту форму, 5-7-5 слогов, соблюдал. Форма – это форма, а внутри может быть разное – и пейзаж, и мысль. Вот есть у меня:
Хокку - мой портрет..:
Не то, что думаю, нет
То, что заметил.
Сейчас я уже хокку не пишу, потому что почти обо всем написал. Кстати, и Басё написал примерно тысячу хокку. Неприлично его слишком перегонять (смеется). Вообще в форме хокку содержится какой-то метасимвол, модель мира, сосредоточенная в моменте. Смысл, конечно, здесь играет роль: хокку должно быть прозрачным по смыслу. Вообще в моих регулярных стихах совсем нет внешнего мира. И он вдруг появился в хокку. Потому что там важно созерцание.
– Если бы у вас была возможность встретиться с поэтом, ныне покойным, с кем бы вы хотели повстречаться?
– Отвечу вам стихотворением из цикла «Встречи во сне» (документальная регистрация):
Я беседовал с Пушкиным.
Он заскочил сюда ненадолго
из своего времени.
Говорил больше я.
Рассказывал ему о Хлебникове
и дал почитать второй том.
(Наяву
его давно у меня украли.)
Как он воспримет эти стихи
и что напишет потом?
Захватывающий эксперимент!
Мы просчитали,
что там, в его времени,
до дуэли еще больше года,
и сговорились,
что вскоре
он заглянет опять,
обсудить,
как избежать трагедии.
– А есть у вас стихотворение, которое описывает процесс поэтического ремесла?
– Да, есть. Тоже могу прочитать:
Пустотные слова, бликующие ходы
В другие вееры незакрепленных слов.
Змеиный лабиринт, скорлупчатые кто-ты,
Провалы памяти, ракушечник стихов.
Молчать и выгрызать коленчатые ходы
И вспорхивать огнем на повороте слов,
Перемещать фонарь, расхохотаться: кто ты? –
Выныривая в ночь на кожухе стихов.
Ломает замыслы вращение молчанья,
Щекочет крыльями опавших мотыльков.
Кораллы памяти, да шелкопряды снов
В обмякшем неводе. Но живо ожиданье.
И лживо. Как забор, как изгибанье ткани.
Но выдох. И проснуться на карнизе слов.