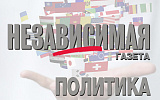Лирика – это умная тишина.
Лирика – это умная тишина.
Николай Фокин. Тишина осени. 1904–1908. Вольский краеведческий музей
В прежние времена в поэзии бытовало понятие «тихая лирика». С разгулом постмодернизма она вышла из моды, ушла в тень, но это не значит, что тихих лириков больше не существует. С одним из них – поэтом Германом ВЛАСОВЫМ, у которого недавно вышла пятая книга стихотворений «Определение снега» (М.: Водолей), беседует Ольга РЫЧКОВА.
– Герман, может быть, для начала прочитаете одно из своих стихотворений?
– Да.
помолчим на латыни
увидишь она оживет
вот посланник Полыний
затянутый пряжкой живот
а глаза он скосил
чтобы шум не тревожил письмо
сколько раз я просил
обернулся и время само
так запомнило время
нептичии эти черты
в окруженье деревьев
домашних шаги разлиты
и кричит он домашним
и весту клянет не со зла
всё пропахло вчерашним
оливы и уши осла
будто ласточкой новой
бежавшая мысль на просвет
на дощечке кленовой
на ней не оставила след
всё ее отголоски
собакою лязгнет засов
между костью и воском
зазор как меж двух полюсов
не желая смириться
краснеет и бьет себя в грудь
сам становится птицей
которую просто спугнуть
– Вы сами могли бы отнести себя к тихим лирикам, в числе которых – Николай Рубцов, Владимир Соколов, Алексей Прасолов, Геннадий Русаков, Олег Чухонцев?.. Или вам ближе какая-то другая поэтическая школа?
– Я бы добавил еще Юрия Левитанского: хотя по-настоящему сильных стихов у него мало, но среди них – замечательное про «золотые шары»; Евгения Винокурова, Константина Ваншенкина и Александра Кушнера – особенно раннего – с его чистым и узнаваемым дыханием. И, конечно, нравится Геннадий Александрович Русаков, учившийся у Арсения Тарковского. Наверно, лирика – счастливое умение довольствоваться малым: есть рядом любимый человек, он жив – это уже микрокосмос. Но попробуйте что-то изменить, расшатать формулу – и поэт заговорит на другом языке. Как мифологический Орфей, последовавший за Эвридикой, или исторически достоверные Данте, Вергилий и Петрарка. То есть неверно думать, что лирика – мещанство и легкий, обслуживающий жанр: просто при нужном освещении видна суть предметов. Как у Тарковского: «...простые вещи: таз, вода, кувшин...» Простое волшебство говорит: «Вот твоя точка отсчета, просто имей глаза». Или – рискованный пример – как пел Бернес: «С чего начинается Родина?»
Лирика – это такая человеческая лазейка во вневременное: две империи умерли, а Сафо и Катулл живы, потому что человек не меняется. «Тихая лирика» – чисто проработанный кусок бытия; стены чистой комнаты просвечивают, они – декорация, и видны нити, за которые дергают ее жильцов. И когда все горит, поэт становится пророком и визионером, как Русаков. И еще: «Тихие песни» – так называлась, кажется, вторая книга Иннокентия Анненского. Поэтому лирика не есть что-то статичное, тут есть ожидание или, лучше, обещание; она – умная тишина, близкая к исихазму – учению христианских молчальников.
– Гюстав Флобер сказал о своей героине: «Госпожа Бовари – это я!» Насколько автобиографичен ваш лирический герой – мечтатель, обращенный в прошлое, «иностранец┘ прохожий, слепец с чувствительною кожей»?
– А если Флобер захотел написать «Госпожу Бовари» – и ею стал? Я к тому, что автор, создавая героя, соединяет себя с вымыслом. В итоге получается правдоподобный (и даже слишком) персонаж. В чем успех «крестьянки молодой» Некрасова? Ведь ее ругали за неточности, но текст слишком пафосный, надрывный, и ему поневоле веришь. И о фантастических типах Михаила Булгакова то же можно сказать. Вряд ли герои автобиографичны на все сто. Скорее они подчеркивают одну из склонностей писателя. Вот кого из героев Федора Михайловича можно назвать списанным с автора? Часто это герой отрицательный, как в «Братьях Карамазовых». Кстати, в процитированном вами стихотворении герой списан отчасти с автора, а отчасти с одного редактора, очень симпатичного мне человека. И поэтика меняется, потому что идешь к правоте, к себе и решаешься на большее. Наверно, вы правы насчет «мечтателя, обращенного в прошлое», ведь половина творчества – это память, повторное проживание. У Владимира Гандельсмана, одного из любимых моих поэтов, много ярких стихотворений именно о детстве и юности – поэт заново их проживает, воскрешает.
– А почему в ваших традиционных стихотворениях по-постмодернистски отсутствуют знаки препинания? Несмотря на тоску по прошлому, вы все же идете в ногу со временем и отдаете дань нынешним поэтическим формам?
– Ну, иногда я ставлю знаки. Но при их отсутствии появляется другой формат прочтения. Читателю приходится углубиться в текст, самому его разбить, расставить такты, ударения. Он как бы доделывает это за автора. С другой стороны, текст без знаков препинания должен быть менее уязвим, и, если автор их не ставит, он должен быть к этому готов. Можно сказать, что такой текст – карта местности, а не фотография со спутника. Читатель своим воображением делает лес зеленым, речку – синей, дома – темными и т.д. По-моему, современные поэты уже к этому привыкли, но читатель традиционный – протестует. Но писать без точек и запятых – грех небольшой. Куда хуже утверждать, что ценно только новое, совершенно оторванное от традиции. Что важно лишь прямое высказывание. Да, по большому счету «Я помню чудное мгновенье» – и есть прямое высказывание, прямая речь, но за ним стоит опыт, дар речи. А за строчкой вроде «Я одинок, как на луне Незнайка», по-моему, не стоит ничего. Я думаю, свое слово в поэзии часто говорят не те, кто объявляет себя ее реформаторами. Если обратиться к живописи, то для Тернера смена техники, наверное, не была чем-то революционным. Просто он слишком хорошо знал живопись и вместо движения по кругу, повторения – выбрал свободу выражения. Я хочу сказать, что нельзя волевым решением объявить новый ареал обитания поэтов или форму их одежды. Достаточно знать поэзию в развитии, чтобы сказать, какой она может быть завтра. И еще: мне бы не хотелось, чтобы русская поэзия стала похожа на американскую и европейскую. Нам еще есть что терять.
– В Живом Журнале вы характеризуете себя – «скорее домосед, чем странствователь». Тем не менее вы частый гость и участник литературных вечеров и фестивалей, состояли в литстудии «Луч». Что кроме роскоши человеческого общения вам как поэту дает такая активная литературная жизнь? Может быть, это материал для будущих мемуаров, повестей и рассказов о писательском житье-бытье?
– Первая фраза – из Евгения Баратынского: он делил поэтов на два типа и причислял себя к первому. Литератор, наверное, должен быть на виду. Ошибка писать в стол и показывать только близкому кругу. Напрашивается ассоциация с писцом из Достоевского, который водил по бумаге пером без чернил. И тут я признателен «Лучу» под руководством Игоря Волгина, где были «жесткие» обсуждения, перераставшие затем в литературное товарищество, просто дружбу. Понимаете, должен быть диалог между мастером и учеником, должна быть передача знания. Должен быть круг вам равных. Иначе стихи будут оставаться отдушиной, свободным времяпрепровождением. «Просто филолог» не понимает, что стихи – это работа, забирающая все ваше время и внимание; что творчество меняет (и часто трагично) вашу жизнь. Вот это понимаешь, общаясь с равными, «просто филологу» этого не понять. Баратынский, кстати, был оторван от друзей поневоле, но это ему пошло на пользу – у него свой, в чем-то трансцендентный, взгляд, он будто оглядывается в дверях.
А мемуары пишет мой друг, тоже «лучист», прозаик Слава Харченко: «Все мои друзья и знакомые – великие русские поэты. Когда мне грустно или одиноко, я им звоню и спрашиваю: «А я ведь тоже великий русский поэт?» – «Не, ты не великий русский поэт. Ну, какой из тебя великий русский поэт. Ты просто русский поэт. Обыкновенный такой простой русский поэт». После этого я обычно затихаю, кладу трубку и иду спать. Но литература сейчас не играет той роли, как, например, во времена Булгакова. Мы живем во времена актеров, а не героев – ждут скандала, а не мемуаров. Этим объясним успех, скажем, «Анти-Ахматовой». Поэзию вытесняет массовая культура – главный ее враг. Но об этом еще Герман Гессе писал, называя наше время «фельетонной эпохой». Поэтому я не думаю, что наши мемуары станут библиографической редкостью. Во всяком случае, не сейчас. Однако мы можем, по совету Гессе, относиться к происходящему вокруг с иронией.
– Опять возвращаясь к ЖЖ: в разделе «О себе» у вас приведена цитата из «Альтиста Данилова». Кого из писателей кроме Владимира Орлова вы любите?
– Я поздно открыл «Альтиста» – чудесную вещь, где любовно выписан московский быт 1970-х. Еще мне близок герой, оказавшийся меж двух миров и решающий метафизические головоломки или (больше!) служащий инструментом (а он – музыкант) для их решения. Здесь – темы музыки и любви, это лучшее у Орлова. Здесь он – продолжатель Гофмана. Нравятся Владимир Шаров, Саша Соколов. Последнее, что удивило, – «Овсянки» Дениса Осокина и «Танкист, или «Белый тигр» Ильи Бояшова. Еще «Синдром Петрушки» Дины Рубиной – я по прочтении даже в Прагу съездил, где разворачивается действие этого романа. Перечитываю Достоевского, Чехова. Чуть не забыл: есть такая проза у Александра Пятигорского – «Философия одного переулка». Очень рекомендую.
– Расскажите о своей работе переводчика. С каких языков и что именно вы переводите – прозу, стихи?
– Я начал переводить, как окончил филфак. Это было в 1990-м. Переводил в основном с английского все подряд. Инструкции, пособия, эзотерику, но главным образом – телесценарии. Тогда это кормило и не нужно было сидеть в офисе от звонка до звонка. Я перевел первый фильм на канале НТВ про Агату Кристи. Потом пробовал себя редактором, журналистом, сценаристом┘ Сейчас перевожу стихи с языков братских народов, печатаюсь в журнале «Дружба народов». Само название журнала как никогда актуально, ведь осталось мало мостиков, соединяющих наши культуры. Переводил с узбекского Рауфа Парфи и Вафо Файзуллаха, с белорусского – Ларису Гениюш, Югасю Коляду и Людку Сильнову, с грузинского – Шоту Йаташвили. Даст бог, в «Новом мире» выйдет подборка Игоря Рымарука – замечательного украинского поэта. Вообще, переводчик напоминает земляного червя, пропускающего землю через себя. Но сильные авторы – подарок, через них многое открываешь для себя. Переводчик мог бы стать таким культурным миротворцем – ведь он держит в голове как минимум два взгляда на один предмет, несколько решений для одной задачи.
– В одном из стихотворений вы сформулировали три заповеди: «Пора писать хорошие стихи, творить молитвы и влюбляться реже...» Как считаете, вам удается им следовать?
– Скорее это три жалобы. Но если серьезно – я несобранный человек. Когда я внимателен и сосредоточен – удается много и сразу, такой синхронизм возникает. Жаль, что редко. Нужна доля здорового эгоизма, без которого нет той степени внимания и воли, нет той степени сжатия, когда слова раскрываются. А формула одна. Кажется, Тарковский сказал: когда стихотворение удается – поэт что-то меняет в себе в лучшую сторону. И, наверно, не только в себе.