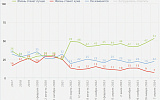– Вы, помнится, как-то говорили, что нынешнее время в чем-то параллельно 70-м годам┘
– Параллельно, но не сопоставимо┘ Я даже сказал «рифмуются», потому что рифмующиеся слова – это разные слова.
– Тогда должно быть какое-то явление в современном искусстве, и в частности в литературе, рифмующееся с концептуализмом?
– Очень может быть. Неофициальная культура возникает тогда, когда очень затвердевает официальная. Я сейчас еще пока не могу назвать приметы новой официальной культуры, но я чувствую, что какая-то новая официальная культура наступает. Вот когда она станет явной, понятной, формулируемой, тогда и будет подготовлена почва для неофициальной культуры.
– Выискивать флагманов неофициальной культуры пока рано?
– Даже лидеров официальной культуры пока назвать невозможно. Помнится, мы обсуждали в школе злословия с Татьяной Толстой и Дуней Смирновой вопрос: что может стать официальной культурой? Я предположил тогда, что гламур. Мне и сейчас кажется, что это будет замешанный на легком, вальяжном патриотизме гламур, который сейчас носится в воздухе, – «гламурный патриотизм» или «патриотический гламур», как вам будет угодно.
– Как в Третьем рейхе?
– А в Третьем рейхе был гламур?
– Соответствующая атмосфера: развлекуха, кабаре, легкомысленная музыка, немецкие комедии, настолько безобидные, что их потом показывали по всей стране в качестве трофейных┘
– Развлекуха была. А кабаре – это очень серьезное, социальное искусство. Вы еще скажите, что и Бертольд Брехт – это гламур! А вот сентиментальное кинцо с мелодраматической основой – это гламур, хотя тогда такого понятия не было. Различие, на мой взгляд, в том, что любой тоталитарный режим борется с модой, а гламур – это все-таки мир моды. Поскольку сейчас не тоталитарный режим, а всего лишь авторитарный, то мода ему вовсе не мешает, он скорее приспосабливает ее под свои нужды.
– Вообще говоря, тоталитарное время более выгодно для поэзии, хотя и не для поэтов?
– Согласен, но не дай бог нам тосковать по тем временам, это было бы неисторично и неэтично. Я и мои друзья были в 70-е годы очень счастливы, при том что мы жили полунище, под угрозой репрессий, потому что многие из нас публиковались на Западе. Мы ощущали себя чем-то избранным, чем-то отдельным. И, главное, мы друг друга нашли. Было прекрасно оказаться в мастерской какого-нибудь художника, в компании себе подобных, где тебя с полуслова понимают, где сидят какие-то барышни и смотрят влюбленными глазами. Это было счастливое время. Именно в те годы мы сформировали для себя ту внутреннюю свободу, которая только свободой и может называться. Внешней свободы не существует. Мы не зависели внутренне ни от кого, хотя внешне зависели от ряда социальных обстоятельств.
– В то время в поэзии действовала своего рода гальваническая батарея: с одной стороны, была реальность идеологическая, с другой стороны – реальность действительная, между этими двумя пластинами, наподобие искры, существовали концептуализм и другие эстетические практики. Что в наше время размывания всех строгих критериев и полюсов может быть такой гальванической батареей?
– Наверное, не мне об этом говорить, потому что я эту энергию в значительной степени перестал ощущать. Я ведь стихов несколько лет не пишу. Объясняю это потерей мотивации. Не знаю, для чего это нужно делать. У меня есть ощущение, что наиболее важный для себя корпус поэтических текстов я уже написал. Поэзию как способ существования, как естественное отправление я не воспринимаю. Есть такой тип поэтов, которые пишут, потому что они поэты, – мне это непонятно. Так что ваш вопрос следует переадресовать тем поэтам, которые много и регулярно пишут.
– Вы выпали из гальванического поля и перестали ощущать императив поэтического самовыражения?
– Да, и сейчас занимаюсь совершенно другим. Я перешел в эссеистику и именно там решаю свои творческие задачи.
– Вы отличаете эссеистику от публицистики?
– Конечно, и у меня есть критерий, как отличить одно от другого. Перечитывая свои тексты, я оцениваю их по двухбалльной шкале: «включу в книгу» или «не включу в книгу». Эссе – это то, что будет интересно читаться и спустя год, и спустя несколько лет. Я выпустил уже два сборника своих эссе и сейчас готовлю третий – «Духи времени». Он выйдет в издательстве «Колибри», в котором главные редакторы Сергей Пархоменко и Варвара Горностаева – мои давние друзья. Вообще книга – это интересный тест на качественность, потому что напечататься в журнале – одно дело, а опубликовать текст в книге в окружении других таких же текстов – совсем другое.
– Евгений Попов как-то говорил, что у него так мало публицистики, потому что он относится к ней как к прозе и пишет столь же тщательно. А вы?
– Да, а я пишу ее так же тщательно, как поэзию. Я подхожу к тексту с поэтической точки зрения, потому что беспрерывно меняю порядок слов, что не входит в число журналистских добродетелей. У меня больше времени уходит на форму, чем на изложение двух-трех мыслей, которые могут быть очевидными.
– А чистую прозу пишете?
– Нет, рассказы, повести, романы я не пишу и не имею к этому ни малейшей склонности, интереса – даже читать, а не только писать. Я люблю хорошо написанные «колонки», статьи. Мне слово «публицистика» не нравится, как и «эссеистика», предпочитаю выражение «проза нон-фикшн».
– Вы согласны, что сейчас происходит возрождение клубной (салонной, эстрадной) поэзии?
– Да, и мне это очень интересно, потому что это созвучно временам моей молодости, юности, когда у неподцензурной поэзии было два способа репрезентации: самиздат и то, что называлось «квартирными чтениями», которые по тем временам были очень важными событиями. На таких чтениях выигрывал не только тот, кто умел хорошо писать, но и тот, кто умел хорошо читать, достаточно пластично свою поэтику репрезентировать.
– Насколько ново то, что сочиняют Андрей Родионов, Всеволод Емелин, Анна Русс и другие?
– Нового, строго говоря, никогда не бывает. В качестве «нового» что-либо воспринимается только в сравнении с непосредственно ему предшествующим. Оттого «позавчера» очень часто бывает новее, чем «вчера». Современная «клубная» поэзия – это что-то новое по сравнению с недавними временами, и мне кажется, что это явление очень позитивное. Оно объективно работает на повышение интереса к поэзии. На такие вечера ходят молодые люди, независимо от того, к какому поколению принадлежат читающие. Я, например, в эту культуру вполне вписываюсь, потому что моя манера чтения вполне клубная, хотя возникла тогда, когда не было никаких клубов.
– Публичные чтения побуждают поэта формировать цельный образ, превращать свой внешний облик, биографию и способ подачи материала в произведение искусства?
– С прозой, конечно, все несколько иначе. Проза предъявляет прежде всего текст. А поэт – это явление промежуточное. Поэзия – это не вполне литература, литература только в том смысле, что поэт тоже пишет буквами. Поэзия – явление синкретическое, это текст и автор. Такое понимание господствовало на протяжении Серебряного века, а потом личность автора стала размываться, отступать на второй план. Если за поэзией стоит цельный образ автора, то и узнаваемость такой поэзии выше, и ее запоминаемость.
– Вы следите за современным искусством, живописью, перформансами?
– Меня интересует современное искусство и в каком-то смысле только оно, а история искусства – ровно настолько, насколько оно служит современному искусству фоном или задником. Меня интересуют вещи, еще не встроенные в иерархию.
– Например, Олег Кулик?
– Да, он мне интересен. Я раньше за всем этим очень внимательно следил, просто сейчас меньше времени стало. И любопытство со временем притупляется. В значительной степени этот интерес поутих, но не исчез.
– Как вы относитесь к попыткам встроить концептуалистов в традиционный поэтический контекст? Скажем, Евгений Попов считает, что Пригов – это Надсон нашего времени, лирик. Наверное, и вас можно соответствующим образом проинтерпретировать?
– Можно. Пригов, правда, себя лириком никогда не считал, и я себя, собственно, тоже. Но если кто-то считает – то почему нет? Есть то, что автор сам закладывает в свой текст, а есть то, что извлекают читатели. К тому же бывают исторические жанровые перекодировки. Мой любимый пример – элегия Ленского в «Евгении Онегине»: «Паду ли я стрелой пронзенный┘». Современникам было понятно, что это пародия на романтическую поэзию, но во времена Чайковского это уже воспринималось как высокая лирика, потому что совпадало с эстетикой того же Надсона. Так что мы можем оказаться и лириками, и эпиками. Главное – чтобы нравилось.