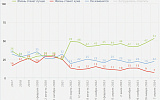Наиболее просвещенные круги нашей литературной общественности культивируют тот взгляд, что нагроможденные вокруг Борхеса предрассудки связаны "с общепринятым и потому уже как бы незаметным представлением о литературе", каковое "отделяет отечественных читателей от едва ли не большинства действительных мастеров словесности ХХ века". Но какую же не общепринятую, иную литературу практиковал Борхес? В чем ее принципиальное отличие от общепринятого в России представления о литературе? И не было ли в нашем отечестве художественных аналогов иной литературе Борхеса?
Сверхлитератор: вид из России
Борхес имел самую тесную причастность к модернизму первой трети ХХ столетия, хотя его коснулись и авангардистские веяния. Излишне доказывать, что, начиная с раннего символизма, Россия приняла самое деятельное участие в модернистском движении, а левый авангард 20-х годов попросту имел здесь свое "умное место". Отсюда вытекает, что в случае Борхеса магическим кристаллом, при взгляде сквозь который его тексты могли бы обрести хотя бы минимальную прозрачность для российской публики, являются европейское декадентство и модернизм XIX столетия, модернизм Серебряного века и послеоктябрьское авангардное искусство.
Когда "самый незаметный писатель" Буэнос-Айреса в начале 30-х годов покинул свое поэтическое гетто и обратился к прозе, он исподволь позиционировал себя в качестве сверхлитератора. Этим понятием я обязан Музилю, посвятившему его экспозиции две главы в романе "Человек без свойств": "Сверхлитератор - это преемник князя духа, и соответствует он в мире духовном той замене владетельного князя богатыми людьми, которая совершилась в политическом мире. Так же, как князь духа неотделим от эпохи владетельных князей, сверхлитератор неотделим от эпохи сверхдредноутов и сверхунивермагов. Он есть особая форма связи духа с вещами сверхбольшого размера". (Уместно заметить, что если прозаический сборник Борхеса 1935 года еще скромно назывался "Всемирная история низости", то следующий, 1936-го, уже своим заголовком "История вечности" сигнализировал об установившемся контакте писателя с "вещами сверхбольшого размера". Ведь вечность - потому и вечность, что она не имеет истории.) Сверхлитератор "судит во всех жюри, подписывает все обращения, пишет все предисловия (предисловия Борхеса к разным книгам изданы в 1975 году отдельным сборником. - С.З.), держит все речи на днях рождения, высказывается по поводу всех важных событий и призывается на помощь всегда, когда нужно показать, какой достигнут успех". Не все, но кое-что существенное в этом ироническом описании отвечает биографическим реалиям зрелого и позднего Борхеса, когда после публикации в начале 50-х двух его книг в переводе на французский Фуко, Бланшо, Женеттом и другими властителями дум была изготовлена его мировая слава.
Если обратиться к текстам, то нетрудно убедиться в том, что Борхес работал в совершенно специфическом модусе изящной словесности: свою литературу он дислоцировал не внутри "жизненного мира" (если вспомнить термин Гуссерля), а внутри литературы. Понимая под литературой все написанное и повинное прочтению, включая теоремы Геделя, теорию типов и кодекс Хаммурапи. К действительности Борхес умел относиться лишь как к библиотеке или даже к "каталогу каталогов". Если бы в этой действительности или таком каталоге значилась только одна книга: в ней было бы заключено - или запечатлено - все сущее.
В "Вавилонской библиотеке" Борхес высказывается на сей счет недвусмысленно: "Вселенная - некоторые называют ее Библиотекой - состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей". И - делает примечание: "Летисия Альварес де Толедо заметила, что эта огромная Библиотека избыточна: в самом деле, достаточно было бы одного тома обычного формата, со шрифтом "кегль 9 или 10 пунктов", состоящего из бесконечного количества бесконечно тонких страниц... Этот шелковистый видемекум был бы неудобен в обращении: каждая страница как бы раздваивалась на другие такие же, а непостижимая страница в середине не имела бы оборотной стороны (курсив Борхеса. - С.З.)". Несовершенным эквивалентом этой бесконечной книги для Борхеса служили энциклопедии и словари, которые он любил читать так же, как его старший современник Владимир Ленин. И в особенности - "Британскую энциклопедию".
Как никто другой, Борхес умел не только анализировать, но переживать литературность литературы: ему был присущ, если угодно, сверхлитературный сентиментализм, который спасал его прозу от сухости и эмоциональной стерильности, от голого интеллектуализма. Аргентинский гений был способен приходить в энтузиазм даже не от книг, а единственно от их перечня. Неподдельным волнением проникнута его рецензия на книгу Перл Кибби "Библиотека Пико делла Мирандолы": "Какие книги были в библиотеке этого необычного светловолосого юноши, который в двадцать три года изложил девятьсот тезисов и бросил вызов всем ученым мужам Европы, пригласив оспаривать их? Спор не состоялся, книги погибли во время пожара; нам, однако, остался рукописный каталог и горделивый перечень девятисот тезисов <┘> Количество книг - по тем временам огромное - составляло тысячу девяносто один том".
Следует иметь в виду еще один серьезный момент: Борхес особым образом осуществил свойственный модернизму перенос главного интереса искусства с мира на творящего субъекта, который потому и творит, что действует "против правил", ставя под вопрос и обиходную литературность литературы. Но если для модернизма XIX века этот образ действий художника был равносилен прежде всего обрушению всех ценностных иерархий культуры ("Цветы зла" Бодлера, "По ту сторону добра и зла" Ницше, "Венера в мехах" Захер-Мазоха и пр.), то для модернизма Борхеса или, скажем, Осипа Мандельштама освобождение художника от правил и табу означало в первую очередь расширение его кругозора до мирового ("Акмеизм - это тоска по мировой культуре") и прокламирование универсальной применимости искусства, которому доступно все сущее без исключений, для которого не бывает "антипоэтических предметов".
Уместно затронуть и один крайне деликатный сюжет: Борхес и политика. Борхес не был чужд политике, но ожидал от нее не вразумления и ангажемента, а развеяния и креативных импульсов, как он ждал их от теории множеств Кантора и "Тысячи и одной ночи". Он занимался политикой в той мере, в какой она его развлекала. Вот его эстетически выверенное и симметрично сбалансированное сопоставление коммунизма и фашизма в рецензии на книгу Джода "Путеводитель по философии морали и политики": "Коммунизм по сути своей интеллектуален; фашизм - сентиментален. Истинный марксист исповедует диалектический ход истории, определяющее воздействие среды, неотвратимость классовой борьбы, ее экономические истоки, насильственный переход от капитализма к коммунизму, ничтожность отдельных людей и значимость масс". Вразрез с этим "фашизм - в большей степени состояние души: в самом деле, он не требует от своих сторонников ничего, кроме экзальтированного проявления некоторых патриотических и национальных предрассудков, которыми в скрытой форме обладает каждый".
В рецензии на антисталинистский манифест Риверы и Бретона "За независимое революционное искусство" Борхес выдвинул столь же забавный, сколь и глубокий постулат: "Марксизм (подобно лютеранству, подобно луне, коню, сонету Шекспира) может служить стимулом для искусства, но было бы нелепостью считать его единственным".
Модернистский читатель
В лекции "Книга" Борхес сходным образом ранжирует чтение и творчество: "Я посвятил часть своей жизни литературе и думаю, что чтение приносит нам счастье. Меньшее счастье дарует нам поэтическое творчество, или то, что мы называем творчеством; на самом деле оно представляет собой смесь забвения и воспоминаний о том, что мы прочитали". Если вычесть отсюда глумление над фанатичными поклонниками появившихся в ХХ веке голодными стаями "гениев", то в остатке обнаружится новая литературная ситуация: модернизм имплементировал в изящной словесности читателя как конститутивную для нее фигуру равновеликую с писателем. С чем связан этот сдвиг?
С расшатыванием некогда непоколебимого статуса авторского текста. Борхес в этом плане заходил очень далеко: "Что такое книга, если ее не открывать? Просто параллелепипед из кожи и бумаги. Но если ее читать, то происходит нечто странное - она всякий раз иная <... >Никто не войдет дважды в одну и ту же реку, потому что воды текут, но самое ужасное в том, что мы не менее текучи, чем вода. Каждый раз, когда мы читаем книгу, она меняется, слова приобретают иную коннотацию (курсив мой. - С.З.)". Борхеса, который настаивал на "связи между ужасным и прекрасным" (беседа с Освальдо Феррари), ужасы не страшили, поэтому к тезису о сверхтекучести автора и книги он сделал еще четыре добавления.
1. Любая книга адресована персонально "каждому из читателей. Это дает бесконечное число возможных прочтений". 2. В каждой книге содержится антикнига; или, в применении к самому аргентинскому мастеру, "книга, написанная Борхесом, в действительности - совсем другая. То, что человек пишет, должно выходить за рамки его намерений. Именно в этом таинственность литературы. Поэтому было бы неверно говорить о неудачных произведениях". 3. Как не существует неудачных изначально и непоправимо текстов, точно так же не существует и классических. "Классика - это не книга, как-то по-особому написанная, но книга, особым образом прочитанная". 4. "Читательских типов столько же, сколько вообще на свете читателей". На мой взгляд, читательский номинализм Борхеса все же является слишком сильной гипотезой; видимо, имеет место типология читателей в более обобщенном смысле. Я хочу сказать, что определенному типу письма (книги) соответствует определенный тип читателя - модернистское письмо корреспондирует с модернистским читателем. Читатель - это инверсия книги. Не автора - автор, как выясняется, тут вообще ни при чем, - а именно книги.
Но что такое модернистская книга и ее инверсия? До второй половины XIX века написанный и напечатанный текст должен был до скончания времен нести на себе авторские стигматы. Однако уже у Ницше радикально изменяется концепция текста. В его набросках 1885-1887 гг. содержится фрагмент "Совершенная книга": "Совершенная книга. Иметь в виду: 1. Форма, стиль. - Идеальный монолог <┘> Никакого Я <┘> Как бы беседа духов; вызов, бравада, заклинание мертвых <┘> Избегать всех слов, способных навести на мысль о некоем самоинсценировании <┘> 2. Коллекция выразительных слов. Предпочтение отдавать словам военным. Эрзац-слова для философских терминов <┘> 3. Построить все произведение с расчетом на катастрофу".
Но в своем устранении из "совершенной книги" авторского Я, в изгнании из нее всякого "самоинсценирования" Автора, то есть всякого притязания на выражение в тексте "внутреннего мира" агента письма, его "переживания", "души" или его "послания Urbi et Orbi", Ницше все еще отдает чрезмерную дань психологизму. У Борхеса и идущего по его стопам Ролана Барта место Автора заступает не сомнительный спиритуализм a la Ницше ("беседа духов", "заклинание мертвых", "вызов, бравада" и т.п.), а культура, язык и коммуникация. В эссе "Смерть автора" Барт заявляет: "Ныне текст создается и читается таким образом, что Автор на всех его уровнях устраняется". Текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл ("сообщение" Бога-Автора), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. И если бы современный писатель захотел выразить себя, ему, по Барту, все равно следовало бы знать, что внутренняя "сущность", которую он намерен "передать", есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются с помощью других слов, и так до бесконечности. Множество разных видов письма и бесконечность отсылок, из каковых и сделан текст, "фокусируются в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель - это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении; только предназначение это не личный адрес". Заканчивается эссе утверждением, которое я бы назвал "аксиомой Барта": "Рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора".
Теорию купленного столь дорогой ценой модернистского читателя предложил Мандельштам в заметке "О собеседнике". Писателя (поэта) он сравнивает здесь с мореплавателем, который в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку со своим именем и описанием своей судьбы. И Мандельштам приводит строки Боратынского: "И как нашел я друга в поколенье, / Читателя найду в потомстве я". Согласно Мандельштаму, в бросании бутылки в волны и в посылке стихотворения Боратынским есть два одинаковых момента: они ни к кому не адресованы. Тем не менее оба имеют адресата: письмо - того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение - "читателя в потомстве". Но есть еще и "океан", который способствует выполнению текстами своего "предназначения", помогает читателю их найти. "И чувство провиденциального охватывает нашедшего". Время модернистского скриптора, текста и читателя - это провиденциальное время: "Поэт связан только с провиденциальным собеседником". Стало быть, читатель (собеседник, слушатель Слова) - это тот, кто приводит в исполнение приговоры Провидения, используя инструменты автора и текста.
И последнее: какая метаморфоза происходит с текстом, когда модернистский читатель его прочитывает? Прекрасный ответ дает Пастернак в "Охранной грамоте", повествуя о восприятии модернистского искусства Серебряного века: "Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого - передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить, но только еще шибче, горячей и цельней. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но, совершенно напротив, в восхищенном воспроизведенье образца".
Рецензент/герольд гениев
Рецензент представляет собой лишь особую породу читателя. Для модернистского читателя-рецензента характерна прежде всего усталость от литературы, порождающая особого рода избирательность в ее потреблении: "...литература - это искусство, которое может напророчить собственную немоту, - пишет Борхес в "Суеверной этике читателя" (1932), - выместить злобу на самой добродетели и достойно проводить свои останки в последний путь".
Как ведет себя читатель-рецензент, которому наскучила литература, который универсален, но не всеяден? Об этом замечательно размышлял в статье "При чтении" Макс Фриш, младший современник Борхеса: "Можно думать, что более позднее поколение, каким, вероятно, являемся мы, в особенности нуждается в эскизности, для того чтобы не застыть и не умереть в заимствованном совершенстве, которое не есть уже рождение нового. Тяга к эскизности <...> не впервые проявляется и в литературе; пристрастие к фрагменту, распад традиционных единств, болезненное или вызывающее подчеркивание несовершенного (вспомним отрицание Борхесом самого факта существования "неудачных произведений" и его скептицизм в отношении классики. - С.З.) - все это было уже у романтизма, которому мы и так чужды, и так родственны" (Борхес боготворил английских и американских романтиков, прежде всего - Колриджа и Эдгара По).
Фриш предлагает свою трактовку таких излюбленных Борхесом-рецензентом жанров, как эскиз и афоризм: "У эскиза есть направление, но не конец; эскиз как выражение образа мира, который больше не замыкается или еще не замыкается; как боязнь формальной цельности, предусматривающей цельность духовную и могущей быть только заимствованием; как недоверие к той искусности, которая может помешать нашему времени когда-нибудь достигнуть собственного совершенства <┘> Афористичность как выражение мышления, никогда не достигающего истинного и прочного результата, - оно всегда уходит в бесконечность и внешне приходит к концу лишь потому, что устает, что не хватает мыслительных сил, и из чистой меланхолии, вызванной этим, делают короткое замыкание". Фриш и Борхес работали с одними и теми же эпохальными проблемами, и опыт Борхеса переводим на язык Фриша.
Вершина рецензентской карьеры Борхеса - его отклик сразу на всю мировую литературу, выполненный в стилистике эскиза и увенчанный афоризмом. Я имею в виду эссе "Четыре цикла" из сборника "Золото тигров" (1972): "Историй всего четыре. Одна, самая старая, - об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей, Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы <┘>. Вторая история, связанная с первой, - о возвращении. Об Улиссе, после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке <┘> Третья история - о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Ясон, плывущий за золотым руном, и тридцать персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего Бога - Симурга <┘> В прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит его все-таки уничтожает; героев Джеймса и Кафки может ждать только поражение <┘> Последняя история - о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и убивает себя; Один жертвует собой Одину, самому себе, девять ночей вися на дереве, пригвожденный копьем; Христа распинают римские легионеры". И афористическая концовка: "Историй всего четыре. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их - в том или ином виде". По совести говоря, со всем уважением к Борхесу, историй гораздо больше: назову хотя бы истории ветхозаветного египтянина Моисея, древнегреческого Эдипа и русского Иванушки-дурака, французской Золушки, еврейско-итальянско-русского Голема-Пиноккио-Буратино, валахского князя Дракулы и т.д.
Что до рецензий Борхеса в химически чистом виде, уместно напомнить, что более трех лет (1936-1939) он был штатным рецензентом еженедельного семейного журнала "Эль Огар" ("Очаг"). В целом половина из созданного Борхесом в стихах и прозе суть рецензии в самом возвышенном смысле этого термина. В этом деле он был профессионалом и вытвердил назубок нерушимые правила сего славного, хотя и не очень благодарного ремесла.
Если верить Святославу Рихтеру, то все рецензии пишутся по шаблону: "Да. Но┘ Да". В этот канон аргентинский сверхлитератор внес свои своевольные коррективы. Так, первое "Да" в его рецензиях относилось обыкновенно не к тому, что написал автор обсуждаемой книги, а к тому, что он должен был бы написать. Скажем, утолив свой интерес к чудесному и экстраординарному посредством чтения книг лорда Дансейни, издевательски беспричинно перечисленных в "хронологическом беспорядке", рецензент Борхес выдает ему литературный мандат в виде собственного credo: "Его рассказы о сверхъестественном отвергают как аллегорические толкования, так и научные объяснения. Их нельзя свести ни к Эзопу, ни к Г. Дж. Уэллсу. Еще меньше они нуждаются в многозначительных толкованиях болтунов-психоаналитиков. Они просто волшебны". В "разволшебствленном" (Макс Вебер) мире Модерна Борхес повторяет вслед за Витгенштейном: "В самом деле существует невысказываемое. Оно показывает себя, это - мистическое".
Вменение Борхесом авторам рецензируемых произведений модуса письма, о каковом они даже не подозревали, связано с процедурами их многократного чтения и помещения их в контексты и традиции, которые отсутствовали в светлом поле создателей текстов. Например, путем подыскания им совершенно невероятных предшественников. От возможных упреков в произвольности интерпретаций Борхес защищался тезисом: "Каждый писатель сам создает своих предшественников". Если вернуться к рецензионной схеме Рихтера, то "Но┘" в случае Борхеса было связано с развенчанием и отвержением ложных, по его разумению, толкований привлекшего его внимание произведения, а второе "Да" - с приданием им имагинарных контекстов и традиций. Так, Борхес в эссе "Кафка и его предшественники" сформулировал свое "Но┘" следующим образом: "Прочитанный впервые, Кафка был ни на кого не похож - излюбленный уникум риторических апологий; освоившись, я стал узнавать его голос, его привычки в текстах других литератур и других эпох". В ком же из писателей прошлого аргентинский сверхлитератор распознал голос и привычки Кафки? В рецензии на "Процесс" он заявлял: "В Германии существует множество теологических интерпретаций произведений Кафки. Нельзя считать их неверными - известно, что Франц Кафка был приверженцем Паскаля и Кьеркегора, - но они и не обязательны. Один из моих друзей назвал мне человека, предвосхитившего фантазии Кафки с их немыслимыми провалами и бесчисленными мелкими препонами: это элеат Зенон, придумавший бесконечное состязание Ахиллеса с черепахой". А в другой рецензии Борхес ввел в эту имагинарную традицию "китайского автора IX века по имени Хань Юй".
И последнее о деятельности Борхеса в качестве рецензента. Зрелый и поздний Борхес предпочитал разовым критическим выстрелам по отдельным произведениям приглянувшихся ему писателей залпы сразу по всему их творчеству. Подобными залпами были его портреты мастеров изящной словесности и безвестных тружеников на ее ниве, а также предисловия к их произведениям. Я далек от всякого поползновения к преуменьшению изобразительного дара Борхеса, но честно сознаюсь в том, что лучшие его литературные портреты показались мне удивительно похожими. На кого? На Хорхе Луиса Борхеса. Собственно говоря, это неудивительно. Разве не сам маэстро не уставал цитировать своего любимца слова Эмерсона: "Иногда кажется, что все книги в мире написаны одной рукой, что их, несомненно, создал один вездесущий странствующий дух". Нет ничего легче, чем портретировать вездесущий странствующий дух: все до одного писатели на него похожи.
...Чтобы понять гения, надо идти в его страну, подсказывал Гете. Духовной отчизной аргентинского гения, точкой отсчета его понимания литературы были: иудаизм с его Ветхим Заветом, христианство с его Евангелием и ислам с его Кораном. В литературах, развившихся в ареалах распространения этих религий, соотношение между автором и его творением моделировалось по ветхозаветному "Бытию": "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой". До Борхеса лучшим рецензентом во Вселенной был лично Господь Бог. Собственно говоря, Европа и исламский Восток ведали лишь литературу "шестого дня", где автор сохранял господство над текстом и после его возникновения и отрешения от автора. Ведали до тех пор, пока не настал "седьмой день" декаданса, модернизма и авангарда. В седьмой день, напомню, Бог сочинил "из праха земного" человека. Сотворил Читателя, суверенного, наделенного стремлением стать "как боги, знающие добро и зло". Читателя, каким его вновь сочинило в эпоху fin de siecle модернистское искусство, которому блистательно наследовал Хорхе Луис Борхес.