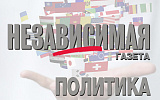..."ВОТ УМРЕТ Толстой, все пойдет к черту!" - сказал Антон Чехов Ивану Бунину. А на вопрос: "Литература?" ответил, не ограничивая областью одной лишь словесности масштаб будущей катастрофы: "И литература".
А Марк Александрович Алданов-Ландау (1899-1957), исторический прозаик, говорит тому же Бунину, конечно, воспринимающему его слова не без ревности: "Великая русская литература кончилась на "Хаджи-Мурате".
Почему именно на этой повести, за которую Толстой взялся в 1896 году, уже поотстав от "художества", занятый сотворением новой веры и целеустремленным просветительством? Взялся, словно стыдясь, хотя, как признался потом своему биографу, не мог не писать Хаджи-Мурата даже в Шемардинском монастыре, где навещал сестру-монахиню. "Это было сказано тем тоном, - вспомнит биограф, - каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное".
При жизни, однако, так и не опубликовал.
Все тот же Бунин записал разговор Толстого с кем-то из посетителей, который, польщенный беседой запросто с великим писателем, донимал его расспросами относительно пресловутой "теории непротивления злу насилием":
" - Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?
Он в таких случаях только смущенно улыбался:
- Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра..."
Забавная ситуация. Наивный собеседник как бы берет на себя роль художника, пробуя оживить, одеть какой-никакой, но живой плотью постулат теории. Он подталкивает Толстого в сторону вымысла, а тот увиливает в сторону морализма. Потому что, вновь став художником, все усложнит. Возможно - и даже наверняка, - уничтожит схематическую стройность своей теории.
Повесть "Хаджи-Мурат" - как раз такой "тигр", вдруг объявившийся в Ясной Поляне. Незаконно, незванно, но желанно втайне. Между прочим, и Бунин словно воспринял ту же метафору, написавши, что испытал "завистливый восторг... перед звериностью "Хаджи-Мурата". И дальше - "райски сильную, бездумную, слепую, бессознательную осуществленную в теле волю к жизни".
"Бездумно, слепо, бессознательно" - бесценная похвала художнику.
Вот то, что часто цитируется - как пример то ли "критического реализма", то ли готовности к национальному покаянию. О горском ауле после ухода русских солдат:
"Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских солдат людьми..."
Но главное здесь - не обличительность "критического реализма"; она захватила Толстого как раз в пору его проповедничества, в пору сознательного отказа от "бессознательности". Точнее - от надсознательности. Той, которая позволяет поистине стать над схваткой, вне ее. Например, не требуя от чеченцев невозможного - чтобы они, поднявшись над своим унижением, не всех русских считали собаками, - в то же время показать людьми тех, кто способен по собственной дикости или по приказу осквернить чужую святыню. "А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие... - право, совсем как российские..." - скажет солдатик Авдеев. И как раз погибнет от рук "гололобых"...
Имам Шамиль - царь Николай... Чеченцы - и наши солдаты... А тот, кто словно бы посредине, сам Хаджи-Мурат?
1851 год. Заглавный герой будущей повести еще жив. Юнкер Лев Толстой, служащий в кавказской армии под началом князя Барятинского (который тоже пока не знает, что ему предстоит взять в плен Шамиля), пишет брату:
"Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость".
Конечно, потом "некто" сделается для Толстого много ближе, понятней; настолько, что он найдет для него образ-аналогию, которым и откроется повесть. Куст "татарина", репья, который, будучи сорван и сломлен, продолжает стоять и жить, восхищая своим упорством, давая пример жизнестойкости...
Пример? Может быть, отчасти и так. Но разве по этой причине исчезнет резон размышлять о "подлости", о ее природе, о том, наконец, в самом ли деле она - подлость или что-то иное? И о двойном перебежчике Хаджи-Мурате, к кому явно лежит сердце автора, будет сказано, в частности: "Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и Чечней, которая покорится ему".
Мечты героя? Или неудавшегося тирана, готового лить кровь своего народа?..
Окончательного ответа не знаем. Не знал и Толстой- художник, который, повторю, словно украдкой, незаконно отстоял перед Толстым-мессией, Толстым-нравоучителем свое право на счастье творчества.
Это - как нечаянно ритуальный, прощально сладостный жест художника, который взял да и возразил своему же намерению окончательно разочароваться в силе искусства. "Бессознательной", неизъяснимой, тем и прекрасной, тем притягательной.
В жизни Толстой-человек выразил это разочарование окончательней, радикальней. Поняв, что даже слово проповеди не изменит мира, он ушел - из мира, из дома. "Уход Толстого из семьи перед смертью, - писал Бердяев, - есть эсхатологический уход и полон глубокого смысла... Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную божественную жизнь".
Эсхатология, как известно, - учение о конечных судьбах мира и человека. И если вправду "великая русская литература кончилась" (а то, что последовало затем, в самом деле уже нечто иное, даже если подчас и великое), то на чем еще было ей кончиться, как не на "Хаджи-Мурате"?