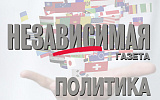Без советской цензуры уже выросло новое поколение, но и для него лозунг свободы слова остается актуальным.
Без советской цензуры уже выросло новое поколение, но и для него лозунг свободы слова остается актуальным.
Фото Артема Чернова (НГ-фото)
По стечению обстоятельств предварительная цензура стала главным стражем свободного слова – так тюремщик становится главным стражем покоя заключенных – за 185 лет до своей отмены. Характерно, что и в тот раз виноваты оказались Киев и Чернигов, поскольку «известно учинилось, что в Киевской и Черниговской типографиях в печатных книгах печатают несогласно с Великороссийскими печатьми». А потому указом от 5 октября 1720 года велено было «никаких книг, ни прежних, ни новых изданий, не объявя об оных в Духовной Коллегии и не взяв от оной позволения, в тех монастырях не печатать». Естественно, данное правило быстро распространилось на все типографии, поскольку Духовной Коллегии, как и всякому нормальному бюрократическому учреждению, присуще было стремление к экстенсивному развитию. Поэтому в регламенте Духовной Коллегии было установлено: «Аще кто о чем богословское письмо сочинит, и тое б не печатать, но первее презентовать в Коллегиум. А Коллегиум рассмотреть должен, нет ли каковаго в письме оном погрешения, учению православному противнаго».
═
Проникающая всюду
═
Впоследствии цензура, как переходящее красное знамя, неоднократно меняла свое пребывание, концентрируясь то в Академии наук, то в полицейских управах благочиния, то в Министерстве народного просвещения, то опять в Министерстве полиции. Одно время цензура выделилась в самостоятельное ведомство, возглавляемое Верховным цензурным комитетом в составе трех министров: народного просвещения, внутренних и иностранных дел. На смену верховному пришел особый негласный комитет, потом – Главное управление цензуры и т.д. Был даже особый комитет по «цензурной ревизии», своего рода цензура над цензурой.
За всеми этими перемещениями стояла главная цель – обеспечить максимальную свободу рук для бюрократии, что, естественно, предполагало тотальный контроль над распространяемой в обществе информацией. Вот почему цензурные правила запрещали делать любые «предположения о преобразовании каких-либо частей Государственного управления или изменении прав и преимуществ» и устанавливали, что «статьи, касающиеся до Государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того Министерства, о предметах коего в них рассуждается». От цензоров требовалось, чтобы «не было допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений Правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали». При этом категорически запрещалось публиковать даже «намеки на строгость цензуры».
В присутствии цензуры и в отсутствие гласности бесконтрольность бюрократии была абсолютна. Причем если в XVIII веке, как отмечал выдающийся русский историк Д.И. Иловайский около ста лет назад, «главным пороком в этом полуобразованном обществе была привычка обогащаться за счет казны, брать взятки и, смотря по личным расчетам, скрывать правду от царя», то и век спустя главным злом был «недостаток добросовестности, или, другими словами, малое развитие чувства законности, – наследие старых времен, поддерживаемое поверхностным просвещением и другими историческими обстоятельствами (например, издавна развившимся обычаем «канцелярской тайны»). Это зло проникло всюду: в торговлю, промыслы, суды, школы и в самую литературу. Могущественное средство против подобного зла – печатная гласность – допущено в позднейшее время; она должна способствовать более правильному развитию общественного мнения».
Действительно, печатная гласность была допущена только осенью 1905 года в общем контексте вынужденных конституционных реформ, проведенных Николаем II под давлением социалистов на улице и либералов в правительстве. К тому моменту издатели фактически уже перестали обращаться к цензуре за разрешениями. Власть понимала, что восстановить действие прежней цензуры невозможно, а после Манифеста 17 октября, даровавшего подданным свободу слова и печати, еще и, мягко говоря, нелогично и нелегитимно. Вот почему на свет появился... Нет, не закон о свободе печати и даже не закон о печати, а на скорую руку сколоченный документ – Временные правила о повременных изданиях, которые отменяли предварительную цензуру и систему административных взысканий. Последняя, впрочем, продолжала действовать за счет других законов, позволив властям с 1906 по 1912 год 973 раза оштрафовать газеты. Но предварительной цензуры и вправду не было до 1914 года, когда появилось Временное положение о военной цензуре, которое, в свою очередь, стало одной из первых жертв Февральской революции 1917 года. Временное правительство, естественно, провозгласило свободу печати как один из основополагающих принципов новой жизни. Так цензуру отменили во второй раз, однако ненадолго, поскольку большевистский переворот был уже на подходе.
═
Главлит как символ советской эпохи
═
Цензура как самостоятельное государственное учреждение была учреждена декретом СHK РСФСР 6 июня 1922 года. «В целях объединения всех видов цензуры печатных произведений, – гласил этот акт, – учреждается Главное управление по делам литературы и издательств при Народном Комиссариате Просвещения и его местные органы при губернских отделах народного образования». Однако было бы ошибкой полагать, что до издания декрета цензуры не существовало. По сути дела, декрет явился финальным аккордом увертюры, предпосланной всей дальнейшей истории Главлита.
За начальную точку следует принять ленинский Декрет о печати от 27 октября 1917 года. Отвечая на вопросы делегации профсоюза печатников, Петроградский ревком так разъяснил смысл этого акта: «Цензура не вводилась», а Я.М. Свердлов добавил: «Когда период восстания окончится, революционный строй укрепится, вопрос будет стоять в другой плоскости». Это предположение перекликается с текстом преамбулы Декрета о печати: «Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены; для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону». Обещанного пришлось ждать не 3, а 73 года.
Декрет и вправду не вводил цензуру, но предусматривал закрытие (временное или постоянное) органов печати, призывающих к открытому сопротивлению и неповиновению правительству, сеющих смуту путем явного клеветнического извращения фактов, призывающих к деяниям уголовно наказуемого характера. Позднее перечень возможных санкций расширился за счет штрафа, общественного порицания, публикации опровержения, конфискации типографии, лишения свободы, лишение всех или некоторых политических прав и т.д. Практика бесцензурной жизни в первые месяцы советской власти была такова: до конца 1917 года были закрыты 92 газеты, за январь–апрель 1918-го – 111. Потом, конечно, число закрываемых газет пошло по убывающей, поскольку независимых изданий становилось все меньше и меньше.
На местах, однако, идея предварительной цензуры как наиболее простого, хотя и грубого, прямолинейного способа контроля за прессой, медленно, но верно торила себе дорогу. Так, 3 мая 1919 года отдел печати Московского Совета постановил: «Никакое издательство не вправе сдавать в набор книг без разрешения Отдела печати», даже если заказчиками выступают отделы наркоматов, правительственные и советские учреждения. Естественно, это постановление, подрывавшее всевластие вышестоящих властей, не просуществовало и недели: Совнарком отменил его.
И все же институциализация цензуры состоялась. Сказались исторические традиции бюрократизации, ее стремление к большей таинственности, к меньшей гласности, а отсюда уже рукой подать до цензуры. Как и в царской России, органы цензуры относились то к системе народного образования, то к Министерству внутренних дел, то, наконец, учреждались как самостоятельная ветвь исполнительной власти. Хотя исторически первым общегосударственным цензурным ведомством в Советской России был Госиздат, имевший право утверждать планы каждого, в том числе и частного, издательства, требовать представления рукописей для просмотра, однако именно сменивший его на этом посту в июне 1922 года Главлит на семь десятилетий стал постоянным логовом цензуры.
Именно из этого логова цензура совершила свой победный набег на периодическую печать и книгоиздание, кинематограф, театр, радио, а потом и телевидение. Ползучая экспансия Главлита шла одновременно по нескольким направлениям. Во-первых, постепенно увеличивалось число изданий, попадающих под надзор цензуры. Так, Положение о Главлите 1922 года освобождало от цензуры издания Коминтерна, всю партийную печать, издания Госиздата, Главполитпросвета, Известия ВЦИК, научные труды Академии наук. Однако уже в 1931 году все «освобожденные» издания должны были проходить предварительный контроль Главлита в целях обеспечения сохранности государственных тайн, а значит, на всех без исключения произведениях печати, издаваемых в РСФСР, должна была присутствовать разрешительная виза Главлита. Цензура контролировала даже содержание этикеток: в Инструкции Главлита о системе оплаты труда политредакторов устанавливалась норма – 35 сюжетов этикеток и товароупаковок следовало цензуровать за смену. Короче, цензура была всевидящей, всемогущей, недреманной.
Во-вторых, постоянно расширялся круг сведений, за которыми органам цензуры надлежало следить. Так, в 20-х годах Главлит разъяснил своим местным органам, что в печать не должны попадать сведения, не подлежащие оглашению; статьи, носящие явно враждебный по отношению к Коммунистической партии и советской власти характер; произведения, в которых проводится враждебная идеология в вопросах общественной жизни, религии, экономики, национальных отношений, искусства и т.д.; публикации, имеющие характер бульварной прессы, порнографии, недобросовестной рекламы. Кроме того, в задачи цензуры входило изъятие из статей «наиболее острых мест (фактов, цифр, характеристик), компрометирующих Советскую власть и Коммунистическую партию». Неопределенность формулировок допускала их толкование в самых широких пределах.
В-третьих, на Главлит с течением времени возлагались все новые и новые функции. Так, в июне 1924 года было установлено, что всякие изменения в личном составе ответственных редакторов и редколлегий должны предварительно согласовываться с Главлитом. В 1930 году Главлит указал, что без его «предварительного согласия не могут открываться новые краевые, областные и окружные печатные органы». Даже внедрение метрической системы мер не прошло без деятельного участия Главлита, который с явной неохотой разрешить соизволил в течение трех лет в материалах о сельхозналоге употреблять слово «десятина».
Рамки прессы постепенно стали тесны Главлиту, и начиная с 1933 года без его предварительного разрешения категорически воспрещалось изготовление «значков, жетонов, эмблем, нарукавных повязок с рисунками и текстом, политической скульптуры, изображающей политических деятелей, а также лозунгов и политических рисунков на фарфоре, стекле, текстиле и пр.». Советские цензоры свили себе гнездо даже на таможнях и почтамтах. Их рассмотрению подлежали все грузы и посылки с произведениями печати, документами, клише, рисунками, рукописями, чертежами, фото- и кинолентами, нотами. Запрещены к привозу в страну были порнографические, а также «вредные для Союза ССР в политическом и экономическом отношениях произведения», которые почему-то не уничтожались, а передавались безвозмездно органам Главлита.
И еще одна немаловажная деталь: оплата труда цензоров Главлита всегда производилась за счет издательств, при которых они состояли. Иными словами, подцензурная печать еще и оплачивала цензоров. Вполне в духе советского лицемерия.
Таким бюрократическим монстром Главлит дожил до середины 80-х годов, когда впервые о нем было позволено заговорить и даже немножко побраниться открыто. Естественно, горбачевская перестройка внесла существенные коррективы в деятельность Главлита, однако еще годы и годы между писателем, журналистом, ученым, с одной стороны, и типографским рабочим – с другой, стояли чиновники с казенными штампами цензуры. И без этих штампов «Разрешено в набор», «Разрешено в печать», «Разрешен выпуск в свет» ни одна газета, книга, ни один журнал не могли дойти до читателя. И не было никаких юридических гарантий, что разрешенное сегодня не будет запрещено завтра.
═
«Цензура не допускается»
═
В третий раз цензура была отменена Законом СССР «О печати и других средствах массовой информации», принятым 12 июня 1990 года. В четвертый раз это сделал 27 декабря 1991 года российский, ныне действующий закон о СМИ. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации. Это был уже пятый запрет за сто лет.
Однако цензурный ген так прочно вписался в наследственный код нашего общества, что все произведенные законодательные операции до сих пор не привели к провозглашенному результату. Скорее сегодня мы имеем все основания говорить о запрете цензуры как о некоей цели, на достижение которой некий таинственный законодатель нацеливает наше государство и общество. Нацеливает, несмотря на необоримую тягу обоих – и государства и общества – к цензуре как спасительному средству, враз излечивающему от всех социальных болезней. Ведь, кажется, достаточно ввести цензуру в отношении показа терактов и контртеррористических операций по телевидению, как террористы исчезнут с лица земли, а спецназовцы останутся только в сериалах. В действительности же еще старики основоположники, украсившие своими бородатыми профилями многие барельефы советской эпохи, учили, что «радикальным излечением цензуры было бы ее уничтожение, ибо негодным является само это учреждение, а ведь учреждения более могущественны, чем люди».
Чем же оно негодно? Во-первых, тем, что введение цензуры есть проявление недоверия к народу, к общественному мнению. Во-вторых, цензура всегда действует тайно, благодаря чему сама остается вне критики, а следовательно, вне контроля со стороны граждан и потому может представлять угрозу общественной безопасности. В-третьих, цензура преследует не столько самое произведение, сколько определенный образ мыслей, а значит, изначально носит неправовой характер, поскольку право может регулировать лишь реальные действия, поступки. В-четвертых, цензура придает привлекательность всякому запрещенному произведению, независимо от его истинных достоинств. В-пятых, скрывая общественные пороки от гласности, цензура лишь усугубляет их последствия. В-шестых, цензура деморализует прессу, которая, в свою очередь, деморализует общественное сознание, стимулируя рост социальной пассивности. В-седьмых, цензор является обвинителем, защитником и судьей в одном лице, что противоестественно в цивилизованном обществе.
Как видим, список многократно проверенных временем обвинений в адрес цензуры как публичного института весьма внушительный. Плюс к тому имеется недвусмысленный законодательный запрет цензуры. Однако она возрождается вновь и вновь под чужими именами, в порой довольно экзотических формах.
═
Цензур не общее лицо
═
Вспомним, что еще в марте 1993 года одержимый антиельцинским экстазом Съезд народных депутатов создал так называемый Федеральный наблюдательный совет по обеспечению свободы слова на государственном телерадиовещании. Хотя функции ФНС были определены весьма широко и туманно – «обеспечение объективного освещения проблем и событий», «предоставление равных возможностей для изложения точек зрения», осуществление «необходимых мер по недопущению политической монополизации», – их цензурный характер был очевиден. Примечательно, что практически теми же словами обосновывается необходимость наделения Общественной палаты Российской Федерации полномочиями по контролю «за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации». Неужели и под этой личиной мы увидим тусклую физиономию цензора? Боюсь, что так.
На местах же давно выстроены все цензурные порядки. Например, администрация Тамбовской области еще в 2000 году приняла постановление «О создании государственного учреждения «Областная телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния», согласно которому одновременно с телерадиокомпанией родился и экспертный совет по ее делам в составе четырех местных начальников и одного университетского ректора. Именно этот совет и является «постоянно действующим, координирующим, организующим, согласительным и экспертным органом, обеспечивающим оперативное рассмотрение дел» областного электронного СМИ. Правда, в законе о СМИ ясно сказано, что «учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации», и что всякая «редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности», и что «обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, – влечет немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации», однако тамбовские власти, видимо, об этом не информированы, а прокуратуре вообще не до того.
Другой пример дает нам практика спецслужб. Так, 5 июня 2000 года Управление ФСБ РФ по Волгоградской области заключило Соглашение о сотрудничестве № 101 с государственным унитарным предприятием «Редакция газеты «Волгоградская правда»». Здесь закрепляется, что «в случае получения сведений, находящихся в компетенции УФСБ, из других источников, сотрудники редакции, в соответствии с п. 8 ст. 47 Закона «О средствах массовой информации», обязаны проверить их достоверность в ПОС УФСБ».
Как легко догадаться, в данном случае налицо: во-первых, откровенная фальсификация текста статьи 47 закона о СМИ, в которой говорится не об обязанностях, а о правах журналиста; во-вторых, откровенное игнорирование обязанности редакции и журналиста сохранять в тайне источник информации (статья 41 закона о СМИ); в-третьих, фактическое понуждение журналистов к сбору информации в пользу органов безопасности, что является прямым нарушением требований части первой статьи 51 закона о СМИ, согласно которой «не допускается использование установленных настоящим Законом прав журналиста в целях┘ сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации».
Но и это не все. Соглашение фактически вводит цензуру, когда обязывает редакцию: а) использовать полученные от УФСБ сведения в своих публикациях, «не сопровождая их собственными комментариями»; б) предварительно проверять в УФСБ полученные из других источников сведения о негативных проявлениях, допущенных сотрудниками УФСБ, и только «после проверки этих фактов уполномоченными органами» принимать решение об их опубликовании; в) в случае опубликования «недостоверной информации, не подтвержденной ПОС УФСБ», опровергнуть ее. Все эти положения ограничивают не только профессиональные права журналистов, но и их гражданские права, предусмотренные ст. 29 Конституции Российской Федерации. И тем не менее практика заключения подобных соглашений существует и в некоторых других правоохранительных и контрольных органах, а следовательно, раковая опухоль цензуры разрастается все шире и шире.
Есть и еще одна широко распространенная в нынешнее формально бесцензурное время разновидность цензуры – самоцензура. Она отличается тем, что властям достаточно лишь подвесить дамоклов меч над головой журналиста, редактора, издателя, владельца СМИ, а уж дальше они сами все сделают наилучшим образом. Причем они, как правило, будут легко повиноваться даже не указаниям сверху, а собственным предположениям о возможных указаниях, выстраданным собственным опытом страхам о гипотетическом неудовольствии, о сдвинутых бровях и наморщенных носах. При этом они и не подумают поинтересоваться, а не бутафорский ли меч подвешен над ними и есть ли у этого меча, так сказать, правовые основания.
Цензура страха, конечно, нуждается в постоянной подпитке. Поэтому время от времени как бы из ничего случаются показательные порки в форме то юридически сомнительных судебных процессов, то «споров хозяйствующих субъектов», то странных исчезновений или трагических случайностей. Иногда это приобретает форму фарса. Например, полтора года назад редактор одной центральной газеты, поместившей мою, может быть, чуть более меткую, чем обычно, заметку с размышлениями по поводу очередного президентского выступления, получил грозное письмо на официальном бланке ФСБ с требованием явиться для объяснений. Разумеется, содержавшиеся в письме утверждения в том, что публикация заметки была якобы проплачена неким банком с целью дискредитации главы государства, не могли вызвать у меня ничего, кроме хохота. Но сотрудникам редакции в тот момент явно изменило чувство юмора: они были в легкой панике. И только главный редактор не поддался общему настроению, а перезвонил в ФСБ и поинтересовался причиной появления странного письма. Оказалось, что это всего лишь чья-то милая шутка и никакого официального письма не существует. Впрочем, я не сомневаюсь: тот, кто вешает над головой журналиста картонный меч, мечтает подложить ему реальную взрывчатку.














.jpg)