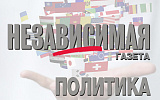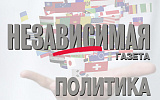РАБОТАЯ над статьей о кинематографе начала войны для Бохумского проекта, роясь в архивах, своих и чужих, чтобы уточнить некоторые даты и факты, я нашла дорогие документы, точнее, их фрагменты, которые, как мне кажется, передают атмосферу тех незабываемых дней. Предлагаю их читателям, дополняя свидетельства очевидцев "данными" еще одного "личного архива" - собственной памяти. В ту пору ученица арбатской школы # 73, потом студентка ГИТИСа, я пережила войну в Москве.
В дневниках и записных книжках речь идет о бомбардировках. Несправедливо, что Москву не числят среди городов, особенно пострадавших от гитлеровской авиации. Бомбили зверски. Целились в Кремль, но, правда, у столицы была мощная зенитная защита.
В первый месяц лидировали зажигательные бомбы. На улицах пахло гарью. По Гоголевскому бульвару, по Арбатской площади, словно осенние листья, летали обгорелые страницы ценнейших книг, уникальных манускриптов - горела разбомбленная библиотека Академии наук на Волхонке, 14.
Первую жестокую фугасную атаку враг приурочил к 22 июля - ровно месяц с рокового дня. Мы, арбатские жители, прятались в глубоком подвале конструктивистского дома # 20 (где потом была автошкола, а сейчас банк) - считалось, что это надежно. Лежим, кто на матрацах, кто на нарах, вдруг страшнейший удар, гаснет свет. Трясло до рассвета. Когда дали отбой и на сияющей солнечной заре мы вышли на улицу, нам предстала следующая картина: на месте Театра имени Вахтангова, этого любимого театра москвичей, недавно заново отремонтированного, зияла гигантская дымная воронка - прямое попадание фугасной бомбы. Потом узнали, что погибли два замечательных актера Василий Куза и Константин Миронов, дежурные.
Все стекла на Арбате вылетели. С манекенов мехового магазина ниспадали открытые каракули и норки. Книги букинистического рассыпались по тротуару. Все скорбно смотрели, никто ни до чего не дотрагивался.
Москву бомбили каждую ночь до глубокой осени. Эвакуация началась уже в июле. Понятно, что все, у кого имелись собственные или снятые на лето дачи, предпочитали ночевать вне смертоносной городской тьмы.
В Российском Государственном Архиве литературы и искусства в записной книжке Татьяны Тэсс, постоянного спецкора "Известий", я натолкнулась на зарисовку из быта подмосковного поселка Кратово, где незадолго до войны поселились в подаренных правительством дачах многие видные деятели советской культуры. Недолго пришлось им наслаждаться сосновым воздухом заповедного подмосковного уголка! Вот запись от 5 августа 1941 года. Находкой горжусь. Запись оказалась неизвестной ни историкам кино, ни даже самому "эйзенштейноведу # 1" Науму Клейману:
"Мы сидели вечером на даче у Эйзенштейна. Круглый стол стоял под деревом, пахли цветы, седая, вся в кудряшках, мать Эйзена разливала какао в зеленые чашки. Вдоль дорожек божественной чистоты стояли рядком высокие флоксы. Эйзенштейн запрещал говорить о бомбардировках, а когда кто-то помянул новое белоцерковское направление, он назвал его "билль-белоцерковским", и все засмеялись. Было очень нарядно и приятно. Но начинало темнеть, на чистом небе проступили первые звезды, и все сразу погрустнели.
Постепенно все встали из-за стола и разошлись. Эйзен сидел, подперев подбородок круглым кулачком, он улыбался, но уже невесело.
Бомбардировка началась в 11 часов. На даче было слышно только, как далеко и глухо бьют над городом зенитки. Но спать уже никто не мог".
Билль-Белоцерковский - советский драматург, знаменитый своей пьесой "Шторм", а также письмом к нему лично Сталина, взявшего под защиту от наскоков этого революционного экстремиста "Дни Турбиных" Булгакова.
А ведь это благоуханное убежище - последнее перед дальним путем Эйзенштейна и всего "Мосфильма" в алма-атинскую эвакуацию, перед героическими казахстанскими съемками "Ивана Грозного"...
Среди бумаг Татьяны Григорьевны Винокур (1924-1992), выдающегося отечественного лингвиста и филолога, а тогда, в войну, моей одноклассницы и первой подруги с детства, я нашла свой собственный забытый текст. Не осмелилась бы, разумеется, публиковать его (в силу явной наивности, глупости и самонадеянности высказывания), если бы не абсолютная аутентичность документа и не событие, которому он посвящен. Речь идет о первом исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Москве 30 марта 1942 года в Колонном зале Дома союзов.
Таня, дочь Григория Осиповича Винокура, великого русского ученого, одного из основоположников "московской лингвистической школы", была увезена в эвакуацию осенью 1941-го. В знаменитом писательском Чистополе она страдала, рвалась в Москву и в итоге сбежала оттуда судомойкой на речном военном пароходе. Я старалась описывать ей по военной почте культурную жизнь, которая все же не затихала в этой голодной, морозной (до минус 42 градусов), затемненной, с комендантским часом, московской зимой. Но ведь немцев-то отогнали, настроение веселее, увереннее!
На четвертой странице программы симфонического концерта пишу и отсылаю "репортажи" и "рецензию" на великое творение гения. "Сотри все и храни программу", - так завершается карандашный манускрипт. Моя адресатка сохранила программу и даже не стерла сообщение - его поистерли, сделав иные строчки и фразы неразборчивыми, военная почта и время. И все-таки - с просьбой о снисходительности и с вынужденными купюрами:
"Танюша! Первый конце был 28-ro в 1 дня, а второй 30/11 в 1.30. На первом была безумно пикантная публика, все были... Публика одета была дивно. Я сидела в 25-м ряду перед Брюшковым с женой. Самосуд был в ударе с всклокоченной головой, очень смешно было смотреть на него за пультом... Теперь ближе к делу.
Симфония мне очень понравилась. В первой части много шуму-грому, медь. (Оркестр, между прочим, расположен оригинально: слева все струнные, справа духовые.) Первая часть идет 30 минут, все первое отделение. Скерцо очень милое, короткое и легкое. 3-я часть изумительная, очень лиричная, в духе классиков. Там в одном месте есть дивное соло альтов. Слушается часть с большим напряжением, да и вся симфония тоже... Успех был большой и 30-го особенно, так как домой идти нельзя был из-за обстоятельств сверху... Надеюсь, что и ты скоро тоже услышишь 7-ю симфонию..."