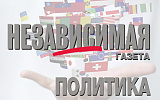Фото Reuters
Фото Reuters
Марш единства в Париже собрал 1,5 млн человек, а по всей Франции, согласно официальным данным, в акции приняло участие около 4 млн. В российском сегменте глобальной Сети и отдельных отечественных СМИ можно найти оценки марша как «хорошо организованного психоза», «постановки».
Такая реакция объяснима: власть, а вслед за ней и часть общества в России относятся к любым массовым акциям с подозрением, полагают, что за ними неизбежно стоит некая внешняя сила, преследующая собственные интересы. Считается, что сотни тысяч людей не могут выйти на улицу добровольно, их обязательно должен кто-то стимулировать, умышленно к этому подтолкнуть, сыграть на их страхах.
Миллионная акция гражданской солидарности – это и вовсе нечто, лежащее за пределами опыта современной России. Никаких экономических требований, никаких призывов отправить в отставку правительство или расправиться с мигрантами-мусульманами, никакого «раскачивания лодки».
Месседж парижского марша довольно прозрачен. Граждане заявляют, что в их стране существует определенный порядок общежития, что они выбрали его сознательно и готовы отстаивать. Порядок относится, в частности, к способу разрешения конфликтов. Если кто-то чувствует себя оскорбленным, то сатисфакции он может добиваться в суде, а не с автоматом в руках. Если кто-то пытается влиять на порядок общежития, то этот кто-то вторгается в область политики и, следовательно, должен быть готов к нелицеприятной критике, в том числе и в форме сатиры.
Смысл солидарности, в свою очередь, заключается в том, что для граждан, при всех их различиях, существуют объединяющие принципы. Это и есть ценности. Если полтора миллиона человек выходят на улицы столицы, чтобы об этом заявить или напомнить, это означает, что в стране сложилась гражданская нация. В России месседжи солидарности не сформулированы, не осознаны, поэтому и о гражданской нации говорить преждевременно.
Многие ценности в нашей стране артикулируются наверху, и российская власть, несмотря на существующие разногласия, могла бы заявить о том, что достаточно универсальный парижский порыв близок и ей. Тем более что Владимир Путин осудил убийство сотрудников Charlie Hebdo и заявил о необходимости борьбы с терроризмом. Так или иначе, в отличие от Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона или иорданского короля Абдаллы Путин не шел в первых рядах демонстрантов в Париже. Причем речь, по всей видимости, идет не об отсутствии политической сметки или ошибке пиар-службы, а о сознательном выборе.
С одной стороны, российская власть обижена на европейские санкции и не может подняться над различиями ради демонстрации общего. С другой стороны, с подачи Владимира Путина Россия все чаще заявляет о себе как о новом лидере консервативного мира. При этом консерватизм понимается специфически, можно даже сказать – избирательно. Ставится знак равенства между консерватизмом и религиозностью. В случае с Charlie Hebdo речь идет об оскорбленной – религиозности. Следовательно, хорошим тоном для страны-лидера консервативного мира является амбивалентное высказывание: убийство недопустимо, терроризму надо дать бой, но и свободой слова нельзя злоупотреблять, оскорблять религиозные чувства нельзя. И действительно – нельзя. Российские чиновники, политики, публицисты в последние дни упражняются в такого рода высказываниях.
Еще несколько лет назад Россия подчеркивала, что является европейской державой, принадлежит к европейской цивилизации – при всей своей специфике и болезненном восприятии собственного суверенитета. Сейчас тренд изменился. Подчеркивается не европейскость, а евразийство, с креном в сторону Востока. Это вполне объясняет тот факт, что в деле поддержки французов Россия оказалась на периферии.