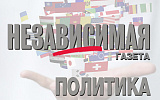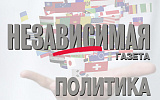Черно-белая гамма Булгакову идет. Фото с официального сайта театра
Черно-белая гамма Булгакову идет. Фото с официального сайта театра
На свой 91-й сезон «Ленком» анонсировал постановки из зарубежной классики. Марк Захаров репетирует «Генриха IV» – хронику Шекспира, Александр Морфов готовит «Франкенштейна». А вот режиссер Павел Сафонов, с переменным успехом выпускающий премьеры на московских площадках, дебютировал на сцене «Ленкома» с «Кабалой святош», в которой Михаил Булгаков зарифмовал свой век с веком Мольера.
Одну из редакций драмы Булгаков обозначил как «пьесу из музыки и света». Кажется, этот авторский подзаголовок режиссер и взял за основу. Чего на сцене в изобилии, так это света и музыки (за нее отвечал Фаустас Латенас). И музыкальный ряд (не из подбора, что сегодня встретишь нечасто) со старинными переливами действительно разнообразен. Буквально каждая мизансцена «облечена» в свой саундтрек, заполняя главные лакуны – игру актеров и режиссерскую интерпретацию. Павел Сафонов – режиссер романтического мировоззрения, что на первый взгляд резонирует с «Кабалой…» в ее образе художника как пророка и жертвы, в антураже призрачного и сказочного Парижа. Причем для спектакля выбрано еще и акцентированное название – «Сны господина де Мольера…». Под сном, точнее кошмаром наяву, стоит, видимо, понимать все происходящее, обильно окутанное на сцене романтическим туманом и мраком, а чтобы зрителю было ясно наверняка, Игорь Миркурбанов, играющий Жана-Батиста де Мольера изнуренным, расхристанным странником, отчаянно моргает, будто силясь проснуться. Его игра в помешательство переходит (не изменяясь в актерской подаче) под конец в опьянение, оставляя висеть в воздухе то, как в булгаковской пьесе тонко проведен контрастный пунктир взлета и падения придворного драматурга, от моментов эйфории до душевного бессилия и физической смерти. Наблюдать за тем, как Миркурбанов весь спектакль старательно изображает духовные мучения, ближе к финалу все больше запутываясь в ногах и тяжело дыша в микрофон, не утомляет разве что ярых поклонников.
Первый световой луч из темноты падает на могилу комедиографа, на ней, как Библия на алтаре, – театральная маска. Ею закрывает лицо Миркурбанов, отделяя мир театра и жизни, картонно ломаясь в воспевании «короля-солнца». Ее, а не живого Мольера будет целовать Арманда Бежар (Александра Виноградова), отчуждаясь в самой первой любовной сцене. Мелодраматическая линия кровосмесительной любви актера и его дочери выдвигается на передовую, затушевывая злободневный потенциал пьесы (не зря она вновь появляется на афише то одного, то другого театра), который режиссер пускает на самотек, увлекаясь любовным треугольником в стиле мыльной оперы. Над чем в одиночку пытается подняться Анна Большова в роли Мадлены Бежар.
Так и добротные декорации Мариуса Яцовскиса – громоздкая декорированная рама с зеркальной стеной и нависающей горгульей – сюда, как ожившая картина, вписывается спектакль – представляют собой излишнее украшательство, а не конструкцию-идею. И оригинальные, но перенасыщенные костюмы Евгении Панфиловой (ловко сочиненные, но перегруженные эпохами) вынуждены заполнить опустевшее пространство смысла. Театр и жизнь – две стороны одной маски – в спектакле никак, кроме полета белого облачка муки – гримировальной пудры, не оттенены, почти не замечены, даны только в клоунских манжетах слуг и шута. Эту выспренную не театральность даже, а театральщину Павел Сафонов преданно любит, стремясь найти в ней лирическую ноту.
Кроме любимых булгаковских сцен (вроде плюющихся святош) спектакль спасают бойкие появления комичного «тушильщика свечей» Жан-Жака Бутона (точная, но не дожатая балаганная роль Ивана Агапова) и редкие выходы Виктора Вержбицкого в роли Людовика. Здесь Вержбицкий не предстает в новом актерском качестве, как, положим, у Константина Богомолова, но хотя бы задает планку, чего не скажешь об остальных актерских работах, потерянных без твердой режиссерской руки. Вержбицкий играет филигранно и церемонно, выделывая редкие фразы до блестящих реприз, вызывая смех издевательской интонацией и «старорежимным» произношением. Его сияющий лоском аристократический костюм троится между веком дворцов, партийных кабинетов и элитных вилл. Холеные пальцы увешаны перстнями. Голова лишний раз не повернется – достоинство и самолюбование, смешанное с презрением, сквозит в каждом шаге. Именно презрительное отвращение будет сверкать в его последнем взгляде, брошенном на растоптанного, обессиленного Мольера. И если в первом акте Людовик самодовольно купается в собственной демократичности и неугасимой иронии, то во втором – и сам страдает от несомой миссии, брезгует доносчиком и утомлен шакалом-архиепископом (Дмитрий Гизбрехт). И в этой роли, при всей кажущейся однозначности образа равнодушного тирана-иезуита, актер оставляет манкую недоговоренность. Подлинную театральную загадку.