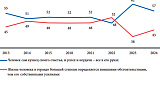Из 2017-го в 1973-й. На вернисаже Виктория Маркова (в центре) показывала каталог первой в СССР персональной выставки Моранди. Фото автора
Из 2017-го в 1973-й. На вернисаже Виктория Маркова (в центре) показывала каталог первой в СССР персональной выставки Моранди. Фото автора
В выставочной жизни Москвы выдалась «метафизическая» неделя. Сперва экспозицию основателя метафизической живописи Джорджо де Кирико открыла Третьяковка (см. «НГ» от 20.04.17), теперь другого метафизика и другого Джорджо – Моранди – показывают в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ. Свою выставку «Джорджо Моранди. 1890–1964» в 82 работы директор Пушкинского Марина Лошак сравнила с ристретто. Но тут, как говорится, кто что любит.
Открывая экспозицию, Марина Лошак сказала, что они не ждут большой посещаемости: Моранди, один из любимых ее художников, – живопись для гурманов, и тут нет снобизма. Учитывая то, как с подачи профильного ведомства музеям сейчас приходится гнаться за цифрами и за зрителем, за эти слова испытываешь благодарность. Впрочем, метафизик Моранди – имя прекрасно известное, хотя ретроспектива его работ и не станет выставкой-блокбастером. В Пушкинском музее первую в СССР его монографическую выставку в 1973-м готовили Ирина Антонова, Марина Майская и как раз Виктория Маркова, которая курирует и нынешние гастроли морандиевских произведений – сейчас вместе со специалистом по творчеству Моранди, научным директором Фонда изучения истории искусства Роберто Лонги Марией Кристиной Бандерой.
На полке под стеклом стоит в ряд посуда – большой и «глядящий» гордо кувшин, вазочки разных силуэтов-комплекций, пиала. Это предметы из мастерской Джорджо Моранди – модели прославивших его натюрмортов. В каком-то смысле этот живописец был аскетом: глядя на его работы, думаешь, что он годами, десятилетиями решал какую-то одну важную для него задачу – компоновал в разные «мизансцены» набор немногочисленных предметов, ограничивал себя в цвете, чтобы из его тонов (охристые, желтоватые, розоватые, сероватые) получить подобие света, свечения поверхности. «В законченных работах Моранди есть несколько скрытых слоев краски – яркие красные и синие тона, придающие поверхности и серых и белых тонов теплое сияние», – в залах приведены слова Эдуарда Родити из интервью с художником в 1958 году.
Выставка конспективно показывает, как Моранди к этому свечению шел, постепенно убирая из картин графичность, контуры (с более линеарными его вещами можно сравнить натюрморты Дмитрия Краснопевцева), сужая цветовую палитру. И в связи с его минималистичными светлыми натюрмортами неизменно вспоминают «белое на белом» Владимира Вейсберга, но на теперешней выставке Моранди один.
Жизнь на кону – такое у Моранди тоже могло быть: в 1915-м он был призван во Второй гранатометный полк, но до отправки на фронт демобилизован из-за нервного срыва. Но в живописи другое – это жизнь на картину. Будто Моранди в течение всего своего пути писал, пусть на разных холстах, одно длинное, как затянувшийся роман, полотно. Или порой даже не писал, а лепил, почти эфемерные образы создавая из очень пастозной живописной поверхности.
В этой заглаженной поверхности, пастозности видится если не борьба с живописной плоскостью, так медленное, методичное ее «возделывание». На контрасте вдруг вспоминаешь темпераментную вангоговскую живопись, тоже пастозную, но там в живописных мазках, в том, с какой скоростью, нервностью они положены – взять хоть «Красные виноградники в Арле» из Пушкинского, – уже разыгрывается отдельная трагедия.
Пейзажи Моранди пустынны, и, когда он брался изображать вазы с цветами, предпочитал искусственные, шелковые цветы – будто доводя до предела их натюрмортную природу. Эти же мотивы – вазы, пейзажи, цветы – повторяются в его офортах. В 1930–1956 годах Моранди возглавлял кафедру гравюры в Болонской академии художеств, а в 1953-м взял Гран-при за гравюру на II Биеннале Музея современного искусства Сан-Паулу. Даже на автопортрете 1925-го Моранди подобен натюрморту: фигура на нейтральном, как и его still life, фоне, палитра и кисть в руках – всё. На себя он тоже смотрит как на предмет – нет почти ничего, что ждешь от автопортрета. Кажется, эмоции изъяты, Моранди интересуют и здесь мерцание полутонов, живописная фактура.
В 1918 году Моранди увидел репродукции картин де Кирико – и вот вам его прочтение «манекенной темы». Если у де Кирико манекены были хоть и героями преимущественно алогичных, не подразумевающих, по мнению художника, смысла, но все-таки персонажами, то Моранди переосмысляет мотив, обращая манекенов в части натюрмортов. «Мои натюрморты того времени остаются натюрмортами и никоим образом не наводят на какие бы то ни было метафизические размышления. Мои манекены для модисток – такие же предметы, как и все прочие, они не были выбраны, чтобы намекнуть на символическое присутствие человеческих существ», – рассказывал он.
Марина Лошак сравнила выставку с ристретто – небольшая, но концентрированная. Но в экспозиции, работы для которой, за исключением эрмитажных вещей, собирали в итальянских музеях, в частных собраниях, акцент - по числу произведений - сделан на стремящихся почти к монохромности натюрмортах. Их много, признаться, мучительно много, в то время как путь, поиски, развитие этой темы прочерчены, увы, пунктирно. Когда видишь такой расклад, в итоге морандиевское художественное исследование, как представляется, либо обладало терапевтическим свойством (как процесс созерцания и создания для художника, и в жизни искавшего уединения, редко выезжавшего из родной Болоньи), либо, возможно, выражало какую-то мучительную невозможность живописную задачу наконец решить. И в экспозиции нюансы натюрморта как still life («тихая, неподвижная жизнь») переходят в итоге к natura morta, буквально – «мертвой природе».