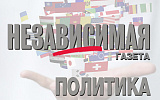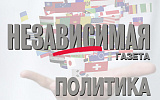Валентин Серов. Портрет Т.П.Карсавиной. 1909. Бумага, графитный карандаш. Лист из альбома. ГТГ.
Валентин Серов. Портрет Т.П.Карсавиной. 1909. Бумага, графитный карандаш. Лист из альбома. ГТГ.
Из имеющихся в собрании галереи 750 графических листов на свет из запасников вытащили треть и сделали «Линию жизни» – столько ГТГ никогда не показывала. В галерее самая полная коллекция рисунков, акварелей и пастелей художника, большинство которых осело в музее после его смерти – будучи в составе галерейного руководства, он считал неэтичным приобретение собственных творений.
Тонкая косточка локтя и едва обозначенная линия руки – эфемерная, как и трепещущая линия платья. Штриховка и завитки, чтобы «дотронуться» до пышных волос. И главное – плавный изгиб шеи, одна линия, просто и естественно рассказавшая про сложный ракурс и изящество Тамары Карсавиной. Нет смысла вставать в длинную череду поющих хвалу Серову-портретисту – вряд ли в ней когда-то убудет. Просто его парадные женские портреты – а в более камерной, более интимной графике это даже виднее – можно рассматривать с изгиба шеи. Кажется, именно эти уходящие профили хорошенько усвоили сегодняшние барышни, на все лады склоняющие такой романтический поворот в своих парадных фото.
Серов был даровитым, но его все время что-то не удовлетворяло, он всегда чего-то искал. Заскучав, не завершил курса в Академии художеств, был среди передвижников и среди мирискусников, получил звание члена той самой Академии и снова ее бросил, протестуя против расстрелов рабочих в 1905-м┘
Притом что он был неплохим колористом, был еще и замечательным рисовальщиком – будто мастерство цветовых пятен жило где-то в параллельной жизни к мастерству линии. Надо сказать, Серова-графика здесь разглядывают – и этим невозможно не увлечься вопреки внушительному масштабу выставки – со всем тщанием. Он не только рисовальщик – все начинается аппликациями-силуэтами конца 1860-х, когда ему еще не было и пяти, там по синему альбомному развороту парят белый дворник, извозчик, утлая лодчонка – Серов еще не переживает мир, а с упоением рассказывает его. Вот он уже значительно старше и усеял весь лист карандашными зарисовками домоткановских будней – кто как сидит, что делает. Вот он прилежно штудирует ордена в крохотном альбоме. А вот вдруг акварельный «Извозчик» уезжает с глаз долой в глубину сероватой пасмурной дымки – и его чепушная фигурка, и лошаденка его – всего-то размытые пятна, но только их акварельный озноб передаст ощущение серой, почти чеховской будничности.
Нынешний показ представляет Серова демиургом, пусть порой и хандрящим – он фиксировал мир, будто ставя галочки в графе каждого из жанров. Рисунки, где рука торопится и где она работает вдумчиво, гравюры и масло на холсте. Если пейзажи – то кроме этюдов к пресловутой «Бабе с лошадью» (впрочем, она все-таки скорее проходит по части портрета) однообразная гладь ландшафта с избой, но так, что каждая травинка растет для целого, ее не убрать. Здесь как раз в связи с пейзажем нужно сделать отступление – будучи именитым и признанным, в 44 года художник не побоялся снова сесть за парту и поступил в парижскую Академию Коларосси. Так вот от того времени тут оказался «Парижский бульвар», по-коровински пастозный и с непременной пестрой толчеей. А по соседству – прозрачная Греция с горами и морем, едва подернутым рябью. Если Серов брался за историю, получался Петр I среди хляби основанной им столицы или мчащаяся на охоту Екатерина II. Если за мифологию – выходило «Похищение Европы», снова с дотошными поисками позы и жеста в эскизах, с зарисовками головы древнегреческой Коры, чьи черты лица переняла Европа. Если он делал иллюстрации, то каждому в крыловских баснях подбирал свою повадку, и веришь, что ворона в павлиньих перьях выступает, конечно, именно так – павой. Если художник погружался в театральный мир, появлялись величавый Шаляпин (гигантский угольный портрет) или афиша с дягилевской примой Павловой. Нет только натюрмортов – может, оттого, что Серову их заменяли портреты?..
В «Профилях» Абрама Эфроса есть страстный – пристрастный – очерк о Серове, о его мастерстве, которым он и знал, как распорядиться, и не знал из-за мучившей его тоски. Так и с портретами. Безупречные технически, они нет-нет да и проговариваются об отношении к модели. Иду Рубинштейн, к примеру, тот же Эфрос сравнил с куклой, которую раздели «до изнанки┘ с оскорбительным безразличием человека к игрушке». Продолжив, можно было бы сказать, что красавицу Лукомскую от статуи отличает лишь нюанс – крохотные белые блики в углах зрачков, только они оживляют взгляд. Тут его учителя – строгий Чистяков академичен, а шаржированный Репин (к 30-й выставке передвижников) превратился в пародию на своих «Бурлаков┘». Отдельная линия – уже не только творческой, вообще серовской жизни – художник в автопортретах и в глазах коллег по цеху. Сам он – то смурной мальчишка с пристальным взглядом, то знающий себе цену мастер, подтянутый молодой мужчина. А из-под руки Пастернака, Репина, Врубеля, Матэ глядит то денди в котелке, то вдруг обрюзгший ворчун. Вот эту двойственность тот же Эфрос сформулировал парадоксально точно: «Он не мог не писать, но не мог и писать». Сложная линия сложной жизни.