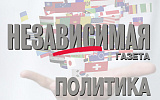Кровать и матрас Кизевальтера.
Кровать и матрас Кизевальтера.
Фото с сайта ММСИ
В Московском музее современного искусства Георгий Кизевальтер представил «Проект Новой Агиографии» – таково название выставки. Семейные и не только семейные фотографии и письма родственников художник-концептуалист сгруппировал с ностальгической интонацией, задавшись при этом не новым вопросом о сосуществовании личного опыта и искусства.
На вид – чей-то архив. Разве что в более парадном – выставочном – формате. «Одетые» в багет и развешенные по стенам черно-белые фотопортреты сосредоточенно и не слишком сосредоточенно позирующих фигур. Сменяющие их снимки наглухо заколоченных окон-дверей. А после – сросшийся в инсталляцию-дорогу ворох писем. К роли архивариуса Георгий Кизевальтер привык давно – еще будучи одним из основателей группы «Коллективные действия» (1976–1989), он же стал одним из главных документалистов ее акций. В первой половине 80-х приложил руку к созданию МАНИ (Московского архива нового искусства). Вместе с Вадимом Захаровым собрал первый том альбома «По мастерским» и самостоятельно – второй. Нынче архивация стала делом совсем хрупким, что художник всячески и подчеркивает, – как-никак речь о кипах листов и километрах строчек из переписки родных Кизевальтера времен 1910–1930-х годов. Плюс старые фотокарточки из семейного архива и несемейные более поздние, соединенные в ловко сработанном коллаже. Торжественные дамы в платьях в пол, усатые мужчины, исполненные чувства собственного достоинства, оттесняются назад шеренгой первого плана, советскими типажами – «иные времена, иные нравы»┘
Вокабулярий этой выставки – агиография, плюсквамперфект, меморабилии – не дает сомневаться в значительности семейной памяти, раз уж привлечены и латынь, и даже жанр жития святых. Разлука, та самая семейная память, насильственная смена исторических поколений в стране – из частного факта частной биографии давно перекочевали на магистральную дорогу главных сюжетов искусства. Проект Кизевальтера – не стесняющаяся собственной сентиментальности, ясно выстроенная трехчастная композиция, которая не стремится огорошить новизной проблематики. Написанный на стене подзаголовок экспозиции «Искусство кончилось, остались документы» постепенно истаивает, во втором зале превращаясь в «искусство нилось, тались окунты». В третьем – в «искус кончи, осли менты».
По духу фото с «черными дырами» вместо лиц тех, кого эпоха убрала, стерла, временами вдруг напоминает булгаковскую «Белую гвардию», где Турбину «показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань». В третьей комнате есть небольшой рисунок «Сон. Сворачивание пространства», который Кизевальтер комментирует так, что «полосатый матрас накатывался на меня┘ безостановочно сворачивая все пространство вокруг». Здесь же, рядом с рисунком, – поднимающаяся вверх инсталляция-дорога из писем потерянных родственников. Иное, но созвучное известному и, казалось бы, противоположному пространству Одиссея: «И все-таки ведущая домой/ дорога оказалась слишком длинной,/ как будто Посейдон, пока мы там/ теряли время, растянул пространство». С другой стороны, работу со старыми фотографиями можно сравнить с «фирменными» вещами Эдуарда Гороховского – тот, правда, переводил фотоизображение на холст и вторгался в него более радикально. А дорога из писем заставляет припомнить, скажем, инсталляцию Дмитрия Александровича Пригова «Русский снег», убеленную ворохом газет. И все бы хорошо, если бы художник не принялся объяснять свой замысел, будто оправдываясь за собранный материал: «Возможно ли превращение личных переживаний и персональной истории в предмет изображения и дискурса?» Вся история культуры только и делает, что отвечает на этот вопрос. Архивариусу ли в этом сомневаться?














.jpg)