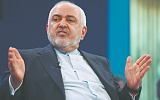В бразильском городе Форталеза на берегу Атлантического океана несколько дней подряд играли премьеру спектакля «Идиот» по роману Достоевского. Уникальность этого спектакля в том, что идет он почти восемь часов и что к концу спектакля – около трех часов утра по местному времени – зал, хотя и несколько пустеет, тем не менее полон внимательной к сюжету и слову публики.
Режиссер спектакля Сибила Фориаз для представления «Идиота» в Форталезе выбрала старинный театр, построенный в начале прошлого века английским военным инженером. Это не просто театр, это театр-сад, в котором помещение с залом и сценой выходят во двор, а сам закрытый театр при желании можно открыть, сняв выгородку из стекла. Кроме того, театр по верхнему периметру – как бы по сторонам сада – соединен двумя галереями, с которых по винтовой лестнице можно спуститься вниз, а можно выйти в какие-то иные пространства, где, вероятно, устраивались торжественные обеды, а может, и камерные концерты: в июне 1910 года театр-сад открылся не спектаклем, а именно симфоническим концертом. Говорят, в мире построено несколько подобных «театральных садов», и бразильцы по праву считают свой Театр Хосе Аленкара одной из туристических достопримечательностей.
Мемориально-музейная значимость тем не менее не мешает использовать площадку по назначению, и вот удачный повод: «Идиот» Сибилы Фориаз – спектакль, как раз подразумевающий частую смену места действия. Говорят, даже на премьере, которую играли с марта по май в Сан-Паулу, пространство не было таким идеальным. Тут же – нет времени для скуки или дремы, если таковая паче чаяния вдруг охватит утомленного, скажем, двадцатичасовым перелетом любителя театра.
Все – кстати: и театр, и сад, и многочисленные лестницы с роскошными дверями в очередной зал или за кулисы сцены, или, наоборот, – с выходом на свежий воздух... Впрочем, и сам театральный зал режиссер использует по-своему: в зале играют первую сцену, в поезде, знакомство Парфена Рогожина с князем Мышкиным. Причем публику рассаживают лицом друг к другу, как пассажиров, с одной стороны – Рогожин в окружении зрителей, с другой – Мышкин. Среди зрителей, пока – молчаливыми свидетелями, – рассаживаются все прочие участники спектакля.
Впрочем, первой сцене предшествует нечто вроде эпиграфа. Через стекло мы видим, как актеры разминаются на сцене, в саду, у входа в зрительный зал разложены в беспорядке платья, брюки, какие-то предметы, книги. Начало спектаклю дает паровозный гудок, актеры выходят в сад и начинают одеваться. Но прежде снимают с себя репетиционную «форму». На улице – плюс тридцать, тем не менее Рогожин напяливает на себя положенную шубу, и в остальном герои – уже герои Достоевского – стараются следовать русскому колориту истории, во всяком случае в том, что касается платья. Потом у каждого в руках оказывается том «Идиота», книги открываются на первой странице и – вот, самые первые слова... Публику приглашают в зал, вернее, мы уже понимаем, в вагон. Я оказался в кресле, соседнем с Рогожиным, прихлебнув из фляжки, он протянул ее мне. Отказываться неудобно, делаю осторожный глоток. Напиток крепкий, но – не наш...
В другой раз Мышкин (Аури Порто) обратился ко мне «за огоньком», у меня ни спичек, ни зажигалки не было, да, впрочем, тут же выяснилось, что в доме генерала Епанчина не курят. Кстати, с курением уже и в Бразилии все жестко: даже в открытых ресторанах, если только это не уличная столовка, курить выходят на улицу, то есть в данном случае – за двери заведения.
Надо сказать, публика – чуть более сотни зрителей (иначе трудно обеспечить свободное передвижение зрителей по пятам актеров, «за сюжетом») – с чрезвычайным вниманием следит за диалогами и вообще за всем, что происходит между героями. И не только зрители. Форталеза – город курортный, считается, что спокойный, во всяком случае в сравнении с Рио-де-Жанейро, тем не менее спектакль охраняли несколько полицейских, которые с нескрываемым любопытством следили за действием, прильнув к ограде сада. Любопытство понятное: история, с одной стороны, малознакомая, а с другой – со страстями, рвущими душу в клочья. И там, и тут, везде – любовь, рядом – предательство, наследство, подлость, и все еще крестятся, богом клянутся то и дело. Настоящий бразильский сериал!
Среди актеров – немало хороших, некоторые, к слову, знакомы московской публике по спектаклю «Книга Иова», который несколько лет назад привозили на Чеховский фестиваль из Бразилии, – после него, если верить рассказам, директор театра, где играли «Иова», приглашала священника – заново освятить все углы. Зрелище вправду было кровавым, местами – шокирующим, но у себя на родине, в Бразилии, «Книга Иова» получила несколько национальных театральных премий. О наградах «Идиота» нам ничего не рассказали, совершенно ясно, что спектакль можно отметить за актерскую самоотдачу, отметить отдельных актеров – скажем, Люсию Романо в роли Аглаи, Сильвию Прадо (Епанчину), но для русского зрителя, пожалуй, он показался бы... пресноватым. Русские романсы актеры выпевали старательно и даже чисто, но... Вот если кому-то в Бразилии втемяшилось вдруг, что надо во что бы то ни стало ставить «Идиота», – так, наверное, потому, что понравился Достоевский, что в этой песне ямщика послышалось что-то родное, бразильское? Так зачем тогда украшать это чужими русскими песнями? Пойте свое, родное! Мне кажется, так и бразильским зрителям будет интереснее, что уж говорить о русских, которым с русским «Идиотом» все уже давно более или менее понятно. А вот про бразильского – мы ничего же не знаем...
Прекрасное распределение в пространстве – замечательно. Но страсти, страсти маловато. Даже как-то неловко говорить об этом, имея в виду страстных бразильских актеров, но показалось, будто бы, увлеченные чужой, северной историей, актеры намеренно приглушали эмоции, словно уговаривали сами себя: ну, не может же быть, чтобы там у них... Как у нас, в Бразилии... Может, еще как!
Сюжет «Идиота», наверное, и у нас не всем известен – во всяком случае, в подробностях, но этой части публики вряд ли будет интересно потратить восемь часов на такой вот ознакомительный тур в мир героев Достоевского. Но – сад, но ночь, потолки, расписанные мастерами, вдохновленными куда более старинными и дворцовыми интерьерами, благоухания цветов, кокосовые пальмы и кокосы, норовившие упасть на голову то князю Мышкину, то Рогожину... Конечно, это было здорово!
Форталеза