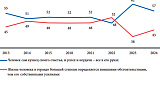ЕВГЕНИЙ РЕЙН - поэт, который любит свою жизнь. Он ее певец. Не его вина, что ее опорные моменты связаны, скажем, с Главтабаком и прочей социалистической атрибутикой, но он таков, и все это в стихе. Его стих, можно сказать, - энциклопедия стиха пореволюционного периода (с вневременным Кузминым, да и многими). Скажем, в "Ночи на китайской границе" он цитирует интонацию Луговского, "Большевикам пустыни и весны", и в итоге не убыло ни от того, ни от другого. Так и надо понимать его обращение к Музе: "И только мы с тобой снимаем с меди окись". Читать Рейна по преимуществу легко. Обманчиво ясна система образов и связей между ними. Порой упираешься в куски косноязычия, которому автор не чинит препон: он ставит на органику речи. Самое работающее у Рейна - то, что невидимо: интонация. Тяжеловато-грустный рокот внутри стиха, внешне облегченного. Рейн принципиально сверхотзывчив и готов воздать стихами всему на свете. Это бесконечное плавание. Он Одиссей, не собирающийся возвращаться. Его Итака - отошедший мир, о котором он вспоминает с первым встречным, хоть с пожилым сталеваром: "Что-то вместе, вдвоем, потеряли, видать.// Так напомним, покуда не стало светать,// О чугунке и прозе".
Не так давно Рейн вспомнил и рассказал сюжет знакомства - своего и Бродского - с Борисом Слуцким. Молодые ленинградцы, потчуемые мэтром в кафе ЦДЛ, прочли стихи. Слуцкий благосклонно отнесся к тому и другому. Никакой передачи лиры не произошло. Однако Рейну было сказано, и сейчас немолодой Рейн охотно поддерживает эту мысль, что ему-де вредит некое адвокатское красноречие.
Наверное, в такой метафорике сам Слуцкий - обладатель красноречия прокурорского. Похоже. Но в целом несправедливо. Тем не менее в эпитете Слуцкого содержалось точное ощущение - на уровне тонкого наблюдения. Обвинительный уклон времени подспудно вытеснялся тоном защиты в отношении самой жизни, ее нерегламентированных проявлений. Проще говоря, время добрело. Добрело оно, разумеется, весьма условно. Но, если иметь в виду Бродского, тунеядец - все же не враг народа. Сам факт встречи поколений за столиком с выпивкой и закуской свидетельствовал о возможности естественного течения жизни без убийственных разрывов в ее, жизни, взаимосвязях.
Вообще говоря, Рейн из тех поэтов, кто не скрывает ученичества у Слуцкого. Со Слуцким его связывает и восхищение, похожее на оторопь, перед искусством авангарда. Однако в своем "Авангарде" Рейн отнюдь не упивается дерзостью первопроходцев - он разделяет давно уже общую мысль о роковой связи между авангардом и тоталитаризмом. Новизна Рейна - в самих стихах, которые попросту хороши, не говоря о весьма прихотливом синтаксисе:
И когда они все сломали,
и везде не летал "Летатлин",
догадались сами едва ли
с гиком, хохотом и талантом,
в Лефе, в Камерном, на премьере,
средь наркомов, речей, ухмылок
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.
Интересно, что по стиху - ритмически, не по строфе - Рейн здесь идет - невольно скорей всего - за Ахматовой: "Поэма без героя". Наверное, это естественно, по многим причинам. Прежде всего - начало всего: Серебряный век, 10-е годы, и, привлекая кузминско-ахматовский дольник, Рейн принимает сторону их эстетики и социальной этики. Спор со Слуцким?..
Если Слуцкий - учитель, а Бродский - ученик, Рейн - мост между ними. Бродский ценил в Рейне песню, рассматривая ее в докибировской плоскости Кибирова: популярная песня, преломленная в авторском стихе. В собственном "Византийском" Бродский прибегает к тем же песенным аллюзиям, как бы реагируя на метод учителя. На взгляд Бродского, Рейн - "метрически самый одаренный русский поэт второй половины XX века". Обмен дифирамбами между учителем и учеником, при всей их серьезности, ставит Рейна в положение, открытое для иронии, - одна из причин потребительской слепоты к его "Предсказанию", книге поэм, давно изданной, но продолжаемой из года в год.
Щедро написанный образ Клима Поленова (поэма "Кабинет") - вот кто стоит в центре раздумий Рейна о поэзии и купле-продаже. Кто это такой? "Московский фраер, бабник, алкоголик", издает двухтомники, вояжирует по свету, коллекционирует оружие (не только!), богато библиофильствует и т. д. Вы угадаете - Луговской, и я бы так сказал. Но автор разводит Луговского с Поленовым: "Нам Луговской показывал знамена". Тут такая игра: если имя прототипа Майя, то в поэме она зовется тоже календарно - Августа.
Поэмы Рейна возникли не на голом месте. Культура его эпиграфов прекрасна и опасна: как с этим соперничать? В подпочве этих поэм прочитываются Блок ("Вольные мысли"), Ахматова ("Северные элегии"), Кузмин ("Форель..."), Багрицкий ("Февраль"), Луговской ("Середина века") - фундамент дай бог, не говоря уж о драматургии Пушкина или, к примеру, о "Страннике" Майкова. Коллизия пушкинской "Русалки" - возвращение к грустным берегам прежней горькой любви - пронизывает весь корпус рейновских поэм.
Тут много женщин. Но есть Ася. Держись, Тургенев! Торжествуй, де Лакло. Празднуй, аббат Прево. Впрочем, источники замутнены. Если и Тургенев, то не Ася, а Полина. Ах, опять неточно. Ася Рейна - конечно же, опасная связь, ангел распутства, комок боли и восторга, лжи и разбитых иллюзий, и вечного хождения по краю пропасти. Она мечется по миру, становясь сгустком рейновского понимания эмиграции.
Отцом Рейн назвал Клима Поленова, учителем - Кузмина, а подлинный его отец, старший лейтенант Рейн Борис Григорьевич, упомянут лишь пару раз в связи с единственным его орденом и гибелью под Нарвой. Велик удельный вес таких упоминаний. Не здесь ли ключ к тому, чего Рейн не объясняет расширительно, - к его неуходу в эмиграцию?
У Льва Лосева есть такой стих: "Был вечер. Рейн болтал о пустяках" (из посвященного Белле Ахмадулиной стихотворения "Poetry makes nothing happen"). Колоссальное обилие реалий, предметов, вещей, лиц, знаков культуры, имен собственных, топонимов - разливанное море бытия, состоящее из капель действительности и атомов духа, - его пустяки. Когда Рейн говорит, например, о неких поэтах 50-60-х (они принципиально раскодируемы), одетых "кто в рубище, кто в лучший// двубортный бирмингемский шевиот", я слышу восхищение автора этим самым шевиотом, равным розоватым брабантским манжетам.
Восхищенный поэт. У него быть не может подтекста. Его поэтика - поэтика потока, словоизвержения, жадной свободы звукоговорения, той, похоже, свободы, которая была им достигнута с некоторым опозданием. Поэмы он начал в 70-х. Дисциплинарная узда в организации стиха ему заказана. Свой ямб он освобождает от регулярности, колдобины в ритме создает сознательно.
"Все ныне память и неликвид", - говорит Рейн. Так ли уж все неликвидно? Впусте ли была усвоена Рейном великая пореволюционная поэзия 20-30-х и более поздних годов? То была лирика, в глубине которой трагедия самоуничтожения личности, лирический плач в доспехах гражданственности - плач по исчезновению лирики. Так появляются книги поэм. На обложке "Предсказания" изображена, кажется, Ника. С крыльями, но без рук.
Рейн продолжает эту книгу. До слез хороша поэма "Через окуляр". Память смертная поддается пересказу постольку, поскольку прозы в стихах Рейна, условно и мягко говоря, всегда было немало. Но просто невозможно назвать прозой вот такое: "Любой котенок, птица, мотылек // могли дышать, а я не мог. За что?" Уложить онтологический смысл этого вопроса в жалобу астматика нельзя, потому что это вопрос поэта. Рейн недвусмысленно развивает эту метафору: "Я вышел на проспект Международный, // и астма вдруг покинула меня,// и я вздохнул спокойно и заплакал". Поэма - тот же стиховой киноопыт Рейна, т. е. монтаж, чередование и слияние сцен, кадров, впечатлений, персонажей. Собственная жизнь разматывается и рассматривается от почти начала до почти конца. Рейн - один из немногих в стихотворстве художников, которые умеют писать портрет. Инвалид под пивнушкой, балерина-неудачница на дачной вечеринке, лесной отшельник интеллигент - живые люди, написанные Рейном мазками лаконичными и безошибочными. Бродский, также присутствующий в этой поэме (как и почти во всех стихах Рейна последних пяти лет, собранных в, может быть, лучшей его книге "Балкон"), совершенно резонно выделил в Рейне музыкальную стихию. Каждого персонажа Рейн накладывает на определенную мелодию. Инвалид: "И он запел "Варяга". Балерина: "Цветущий май". Отшельник: "Приемник "Сателлит" гремел в избе - // из Ватикана раздавалась месса". А что Бродский? Тот "курил и слушал оперетту.// Здесь Оффенбаха, Кальмана, Легара // играли чаще прочих..." Под эту музыку: "Мы вспоминали русские стихи // от Сумарокова до Пастернака". Музыка обрывается на похоронах Бродского. "Протестантка // прочла молитву". Коротко сказано: "будет месса". Но ее нет. И уж совсем никакой музыки нет там, где ее, непереносимо оглушительной, особенно в нынешние летние ночи, - слишком много: в Коктебеле. Рейн пишет о себе, сквозь грустный ряд его персонажей, носителей жизненного урока, проходит он сам, а не некий автоперсонаж, его рассказ о своем несостоявшемся самоубийстве - исповедь, а не игра художественного воображения. Поэма посвящена Н., жене. Она реально действует в поэме. Благодаря ей, ее присутствию в жизни поэта побеждает простейшая истина: "Неси свой крест, люби свою жену, // еще дыши воздушным перегаром // вина и солнца, ночи и судьбы". Поэма заканчивается такими словами жены: "Пойдем-ка на базар". Вот так. Надо жить.
Лев Лосев пишет в своей прозе "Москвы от Лосеффа": "Жадное ощущение лиризма жизни, каждой ее ускользающей минуты, ненасытное вбирание в стихи всех, без исключения, впечатлений бытия, гениальная графомания, если угодно, вот что роднит их (Рейна и Бродского. - И. Ф. ). Я употребил слово "гениальная" ответственно. Природа словно бы вырастила их из одного генофонда, но Рейн был экспериментальной моделью, а Иосиф - окончательной. Рейн - гениальность, Иосиф - гений".
Мы должны принять как данность, что среди нас ходит живая легенда - Евгений Рейн. Говоря о занавесе поэтического века, невозможно не заметить очень большую тень, отбрасываемую на него Рейном. Не осознавать этого обстоятельства - большое личное упущение. Наша подслеповатая, но удалая литкритика сочла своей творческой удачей прилепить к Рейну эпитет "полноводный", не заметив многого, в том числе и того, что последнее время Рейн не печатает своих стихов. Но в этом факте есть свой смысл: и непечатающийся Рейн постоянно присутствует - и в своих, и в чужих стихах от Беллы Ахмадулиной до Бориса Рыжего. Рейна много, и это хорошо.